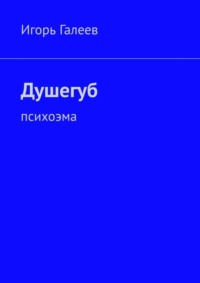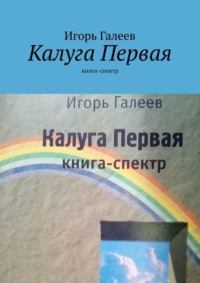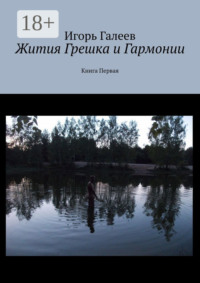Полная версия
Наскальные надписи. заГОвор

Наскальные надписи
заГОвор
Игорь Галеев
© Игорь Галеев, 2019
ISBN 978-5-4496-2857-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
З а Г О в о р
Инициация
отчаявшихся и вопиющих
в беспамятстве
Предвариловка
ы, Ядид, Хетайрос и Филос, после долгого бездействия, начиная этот путь, желаем извлечь из будущего своих последователей и приверженцев – чтобы именами нашими и словами нашими не возводились царства, государства и храмы. М
Мы сумеем достойно и стойко пройти нами же избранный путь и то, что нужно. выбрать
Мы призываем стихии земные и небесные, силы разрозненные войти в нас и соединиться ради последнего . Пусть эти силы дадут нам необходимые возможности, ясность и избавление от тяжёлых недугов, и желчь и ненависть переплавят в упорство и твёрдость. выбора
И пусть наше не будет суетным и поспешным, сможет вычленить из скрытых уголков жизни все чувства и лица лучшие, и да не коснётся наших умов иллюзия, а только естественное и должное. слово
Мы призываем удачу сопутствовать нам, и чтобы каждое растение узнавало нас, и власть смерти перешла к нам, пока мы не вернёмся домой с Добычей.
И будет наше волей нашей, и если нам не будет суждено пройти до конца, то да начнётся всё с начала и обернётся к нам. желание
Мы, единство, сохраним и не откажемся от множества, и в бесконечности найдём себя, и увидим во всём единое. одного
Пусть по силе чувств наших и по воле слов наших, и всё, нами узнанное и принятое, нас сохранившее и нами взлелеянное, с нами прошедшее и разделившее нас – всё, способное нас объять, войдёт в единственное и настоящее наше будет целостное Я.
Дети подземелья
удо – это воля, это когда по слову – захочешь и получишь. Как бы из ничего. Что же такое Ничто? И что значит – как бы? Ч
Я думал об этом набегу, когда у меня только-только вырисовывались в голове контуры пути…
Автоматная очередь резанула по камням, и осколки и пули заметались по стенам подземелья.
Я оглянулся – лучи фонарей высветили остановившегося Ядида, и вторая очередь прошила его насквозь. Кровь брызнула мне в лицо. Он дрогнул и будто электрические разряды пробежали по его телу…
«Бежим!» – закричал телохранитель Горбачёва, а Ядид, пробегая рядом со мной, улыбнулся: «До чего банальное оружие», – и показал мне яму, полную кишащих змей и каких-то неприятных красных жучков.
Самые лучшие сапоги, хотя бы и царские, не становятся произведением искусства. Потому что они созданы для тела. А между тем существует целая громадина якобы ненужных предметов и неисчислимое множество бумажных миров.
Где-то позади опять открыли стрельбу, но я уже не пригибался, полагая, что Ядид первым примет мою порцию пуль.
Спокойствие души и беззлобие – вот что сейчас мне нужно. И если даже телохранитель Горбачёва пристрелит меня, всё равно ему не удастся спасти Михаила Сергеевича от смерти и от забвения, из которого его извлёк Филос. Михаилу Сергеевичу дарована вторая жизнь, и сейчас он всё ещё как бы во сне, он бежит впереди телохранителя, подталкиваемый его бесцеремонными руками, вспотевший и красный, с расхлестанным воротом рубашки, с галстуком маятником, он похож сегодня на милого нэпмана, пристреленного чуть позже в подвале некоей Лубянки.
Никогда бы не подумал, что под землёю так много дорог. Мы бежим уже минут двадцать, ныряя то вправо, то влево. Настоящий лабиринт. А тут ещё громадина бронетранспортёра.
– Заводи! – кричит телохранитель.
Он и ещё один, с бронетранспортёра, закидывают наверх Горбачёва и запихивают его в люк. Бронетранспортёр взревел и выпустил копоть, я кашляю и лезу на крышу.
– А этот кто такой? – хватает меня за волосы ещё один, – что у него за вид?
Вид, как вид, думаю я, вот только поза идиотская. Я стою на четвереньках, уцепившись за железяку и лицо моё задрано кверху, так, что больно шее, и чувствую, как вместе с волосами от черепа оттянулась кожа.
– Да отпусти ты его! – дёргает этого малого Ядид, – он с нами!
– Он же почти голый!
Бронетранспортёр срывается с места и несётся в темноту, и только теперь меня охватывает ужас – я действительно почти голый и представляю, как сейчас моё тело вотрётся в стену туннеля. Какое-то количество минут я в безумном состоянии, я прижимаюсь к металлу, сжимаю пальцы и как парик отстреливаю волосы – всё, теперь им меня не оторвать.
«Поганцы! – шепчу я, вязкие слёзы текут по носу и убегают под грудь, – они и здесь готовы кого-нибудь унизить, они и здесь жлобы. Обормоты! Какой это тупой инстинкт – уничтожать слабого ради этой дурацкой жизни!»
И тут же вспоминаю свою мать и все свои гигантские детские обиды. Я представляю, как потом этому телохранителю нацепят побрякушку за его преданность, и он только в подвыпившем состоянии, очень редко, будет рассказывать, как у него однажды между пальцев осталась чья-то шевелюра.
– Ядид! Ядид! – бормочу я. – Приди ко мне на помощь! Мой верный Ядид, я на краю пропасти, мои пальцы не слушаются меня, под ногами твоя бездна со змеями, эта жуткая машина вотрёт меня в камень, о, как это глупо и мерзко, Ядид!
И я чокнулся.
Так бы сказали сведущие люди. Но откуда им знать, что на меня неприятно действует симфоническая музыка, и год от года я всё чаще утопаю в нежелании жить.
«Его мозг болен, он горит антоновым пламенем, и ему нет возврата к нормальным ощущениям», – сделает заключение сумасшедший психиатр и изобразит на своём лице сверхнормальное спокойствие. Как мне неприятны его чистые ногти и его пиджачок! Какая жестокая тупость живёт в его бегающих глазах! И до чего раздражают его авторучка и аккуратные папочки! В левом ящике стола у него лежит скорлупа от орехов – он любит их ядрышки, они активизируют работу его единственной извилины. И потому он не знает лабиринтов, ему не возможно представить, что я уже целую вечность несусь во мраке, вдавленный в железо бронетранспортёра.
– Ядид! – кричу я последним криком, и тут же мы останавливаемся у бронированных ворот.
Автоматчики наваливаются, и эти четырёхметровые громадины дремуче скрипят, распахивая пасть исторического бункера.
Там другой мир. Теперь стоит Филосу подуть на мои одеревеневшие пальцы – и они мигом оживают, я скатываюсь на бетон. Телохранители уносят Михаила Сергеевича за ворота, то же проделывают со мной Ядид и Филос.
Я ещё успеваю заметить, как в наш бронетранспортёр врезается машина догонятелей, и огненная волна взрыва обжигает мой безволосый череп. Ворота закрываются, и мы слышим истошный крик и мольбу автоматчика, не успевшего вместе с нами.
«Поздно», – говорит кто-то, и серия глухих взрывов бухает за воротами. Дрожат стены, с потолка сыпется и понятно, что если наши преследователи не сгорели, то теперь наверняка погребены.
– Это ад, это настоящий ад! Да оденьте же его! – срывается Горбачёв.
Мне на плечи накидывают шинель, я снова ощущаю запах военных, и черпаки, и чашки, вакса и кубики сахара, – всё это безжизненное проплывает перед моими глазами. Я начинаю видеть фрагментами: белое – Горбачёв, белое – Филос, белое – бритый затылок автоматчика…
Меня несут. Смотри-ка, Горбачёв заговорил, – думаю я, и уже вижу чьи-то пальцы, бросающие на дощатый пол вату. В глубине мозга резко вспыхивает нашатырь, и мгновенно проявляется помещение.
Двое солдат бьют прикладами в дверь, в трёх шагах от меня лежит труп офицера. На нём устаревшая форма, у него рыжие волосы и зеркальные сапоги. С удивлением я замечаю в руках у Горбачёва пистолет. Он стоит сбоку от двери, позади главного телохранителя. Дверь поддаётся и падает – из проёма бьёт яркий свет, и туда первыми врываются автоматчики. Во мне просыпается интерес, и я последним ступаю на ковровую дорожку.
Я уже понял, куда мы попали. Я только не припоминаю второго, сидящего в глубоком кресле, как бы затенённого, хотя света здесь вполне достаточно. А первый – гостеприимный Джугашвили выходит из-за стола и, пожимая руку Михаилу Сергеевичу, просит:
– Я хотел би, чтоби ви чувствовали сэба, как дома.
Главный телохранитель каким-то неуловимым движением валит Иосифа на пол, и тот, привычно скорчившись, стонет.
– Разгребай тут после тебя, гад! – пинает Михаил Сергеевич усатого, – напоганил, а о других ты подумал?
Автоматчики бросаются помогать, бьёт и главный телохранитель. Джугашвили хрипит, из его рта сочится розовая пена:
– Располагайтэсь! – очень ясно произносит он и, передёрнувшись, затихает.
Я подхожу и, глядя в застывшие глаза, наношу свой единственный звериный пинок. Китель лопается, и через прореху на пол высыпаются курительные трубки, их мундштуки, как змеи, ползут из этой бутафорской утробы.
Что я сделал! Что я сделал! – терзаюсь я и отхожу в дальний угол.
Здесь карта звёздного неба – это окно в небо, я давлю на неё обеими руками, и она распахивается двумя половинками, как ставни деревенского дома, и вселенский воздух освежает моё ноющее сердце.
«Филос, – шепчу я, – утешь во мне зверя, приласкай, погладь его, он перестанет рычать и ляжет у твоих ног красотою».
– Да это не ты его ударил, оглянись!
Я смотрю и вижу всю эту компанию, стоящую у вспученного трупа. Вместо себя я вижу у карты Ядида – в шинели и с забинтованной головой.
– А мы где с тобой, Филос? – смотрю я в его карие глаза.
– Мы тут же, тут же, – успокаивает он, – только тебя теперь зовут Хетайросом или Нефешем.
– Как это глупо звучит! – протестую я.
– Ничего, привыкнешь. Все привыкнут.
Михаил Сергеевич подходит к человеку в кресле и требует представиться.
– Только после Вас, уважаемый, – автоматически скрежещет тот.
– Я, Михаил Сергеевич Горбачёв! Вам говорит что-нибудь это?
– После Вас, после Вас, – вызывающе смеётся незнакомец, – Вам что-нибудь говорит это?
– Ну, ты, зубоскал!.. – начинает главный телохранитель. Но незнакомец мигом преображается, делается совершенно иным, даже рост его меняется, он мелко-мелко кивает и трясёт Михаилу Сергеевичу руку.
– А, это ты!.. – успокаивается Горбачёв, – не троньте его, я его узнал. Всем спать.
Спать, спать… я ворочаюсь с боку на бок и не могу открыть глаза. Нужно открыть – я не могу уснуть и не просыпаюсь.
Я возвращаюсь из ничего и хочу вытащить из этого ничего. Я силюсь встать, но вокруг тьма, и мне кажется, что спусти я ноги, они не найдут опоры, я буду долго лететь в тартарары, и Горбачёвы, и телохранители вновь вмуруют меня в железо бронетранспортёра. несуществующее
Филос! – протягиваю я руки.
Он единственная моя опора, он не оставит меня, разбудит, и я уже вижу, как он сцепляет свои пальцы с моими и выдёргивает меня из тугой бочки небытия.
На этот раз я оказываюсь по-настоящему . И тогда под отдалённое мы втроём бредём к выходу из подземелья. голым звучание моей симфонии
Дорога была выбрана не из лучших. И я не понимал, зачем они вовлекли Горбачёва – по моим понятиям он был мимолётной фигурой в истории. Или они пошли по лёгкому пути, зная, что политическая сфера наиболее уступчива для слова?
Ненужное телу приобрело катастрофический размах – оно сделалось бесспорным доказательством бытия духа. И если кто-то и встречал инкрустированные чашечки – то ему бы следовало понять, что они не для потребления, они – символ – искривлённое отражение беспочвенного сознания – творческий тупик, если угодно. И поэтому не стоит есть из них деликатесы.
Уже без сознания я увидел мультипликационную жизнь – . посыпался снег музейных фарфоровых ваз и кувшинов, сотни искусных кинжалов летели среди этого богатства и рассекали полотно гобеленов, раскалывали бюсты и вонзались в моё бесконечное тело, и каждый удар кинжала был звуком, звуки соединились в ритм и зазвучала музыка. Сначала барабаны, затем виолончель и скрипки, потом, вдруг, после какой-то страстной симфонической увертюры, заныл одинокий гобой. Моё тело стало огромной холодной землёй – заснеженной равниной, на которую под эту музыку выходили из меня растрёпанные деревья
Уродец
сли бы у Ингваря спросили, что такое добро, он ответил бы, что это пища зла. Зло съедает самое лучшее, по крайней мере на Земле, где даже святейшая девственница перерабатывается в желудке старости. Но кто он такой, чтобы ему задавать такие банальные вопросы? Е
Он смотрит в воду и воспроизводит реальность. Он знает, что вода – это телевизор, тысячелетний архив, который раскрывает любые тайны. Вода – свидетель, и сейчас Ингварь заставит его рассказать неизвестную историю, которая, если и не случилась, то теперь обязательно произойдёт.
Ингварь – это бездвижимость. У него нет рук и ног. Его кормит мать, она же усаживает его на унитаз, она же моет его обрубленное тело и она устраивает ему дни смеха. Ингварь смеётся. Он смеётся так, что у соседей делаются желудочные колики от злости. Соседи злы, потому что всегда бегают по кругу. Белки в колесе – это неврастеники.
Сегодня у Ингваря целый таз морской воды. Её привёз Геннадий. И Ингварю нет дела, что он бывший осведомитель, Ингварю важно, чтобы его слушали, как это умеет делать Геннадий, у которого сознание застыло на десятилетней отметке. У Геннадия уникальные уши, они чуть-чуть свисают, как у не чистопородной овчарки, и он засыпает лишь тогда, когда Ингварь вводит в комнату вечность. Она ложится тяжестью на геннадиевы ресницы, и он спит прямо на стуле, не опуская головы. Это кричит «караул!» его десятилетнее сознание, и геннадиев мозг спасительно гаснет. Ингварь смеётся.
Он берёт зубами обыкновенную клизму, толкает головой оконную раму и набирает чистого воздуха, потом спускает воздух в морскую воду – слышится шум моря, потом он откусывает от цветка пыльный лист и бросает его в плаванье – где-то рядом кричат чайки, набегают волны, Ингварь дует на лист, лицо Геннадия тускнеет, и в комнату вливается море. Таз начинает светиться, он всё ширится, пока его края не становятся горизонтом, а вместо листа появляется светящийся пароход. Он дымит историей расцвета пароходства, и та самая патефонная музыка витает среди крика чаек.
Настроение у пассажиров превосходное. Они богатые люди, у них здоровые тела, мужчины и женщины взаимоувлечены, лысоватый капитан распираем от счастья – его мечта сбылась – и, прохаживаясь по рубке, он с ребяческим удовольствием слушает скрип своих новых ботинок. Ему есть чем гордиться – судно одно из новейших, и в салонах каждая металлическая штуковина сверкает игрушечной радостью. Коридорные дорожки мягко заглушают шаги, а в баре выбор вин из десяти стран. Длинные платья делают женщин загадочными, а мужчины борются с винными парами, важничают, чтобы не сказать что-нибудь глупое.
Ингварь пересчитывает их всех, и подставляет лицо тёплому ветру. Бельмо Луны высовывается из-за горизонта, его отражение мигает и серебрится в волнах. Женская рука тайно гладит мужскую, и Ингварь долго наблюдает за нежными движениями и равнодушием ласкаемой руки. Он постепенно пропитывается этим ритмом, нежностью и усталостью. Он медленно разрывает материю на две половинки и входит в открывшееся пространство чужого мирка. Там хорошо и тихо. Там обман и счастье. Немного болезней и женское ожидание. Там всё нормально, если не считать непрочитанных книг. А это уже минус.
«Книги нужно читать», – говорит Ингварь.
«Что ты сказал, дорогой?» – останавливается рука.
«Я ничего не сказал, тебе показалось».
Мужская рука потянулась к бокалу. Женская, оставшись без дела, нервно забарабанила по дереву подлокотника.
«Красивая рука, – подумал Ингварь и сказал вслух: У Вас красивая рука».
Женщина оглянулась и ожидающе долго посмотрела на мужчину.
«Сегодня ветер какой-то особенный, – наконец произнесла она, – как бы шепчет что-то»…
«Зюйд-вест», – с достоинством ответил мужчина, а она быстро отвернулась, чтобы не увидеть, как он откровенно зевнёт.
«Классическая история», – улыбнулся Ингварь.
Он уже побывал в каютах, где встретил одну прехорошенькую девочку и подсказал ей, как сложить из бумаги кораблик. Ему самому было интересно, потому что бумага для кораблика была папиной реликвией – старой афишей, и Ингварь успел прочитать и перевести несколько слов. Папа оказался бывшим актёром и играл самого Отелло, по-видимому, он разбогател совершенно неожиданно, и пока не научился подбирать достойный для такого общества гардероб. Он единственный, кто болтал в баре сверх нормы и попробовал вина всех десяти стран. Девочка вытолкнула кораблик в иллюминатор и снова полезла в папин чемодан. Она не ведала, что а этот же миг в соседней каюте уже немолодая женщина медленно и театрально раздевалась.
Женщина, как бы нехотя, перебирала пальцами крючки и шнурки, обнажала плечи, ерошила волосы, и губы её шептали: «нет, нет!». Она жеманилась и уклонялась от собственных прикосновений. Она боролась, но самым чудесным образом успевала оценить свои движения и каждую отражённую в зеркале позу. Она была одна и делала то, на что бы никогда не решилась в действительности. У неё не было мужчин и она знала, что уже не будет. Ей никто не нужен. Она некрасива, но удивительно честна. Поэтому у неё никого не было. Ингварь сказал: «Бедняга!», а потом пожалел. Всё-таки она знала себе цену и не смогла переехать из царства иллюзий в государство фальши. Ингварь извинился, и его сожаление долго витало среди тонких духов её каюты…
А он пребывал на корме и вспоминал похожую историю.
Тогда он жил насквозь пропитанный сентиментальностью, и был глуп, опалённый этим греческим солнцем. А она – больна. Теперь он это понял. Она имела в виду бога. Её ежевечерняя молитва перерастала в экстаз, и она ждала его конкретной любви. А бог не приходил. Она рвала на себе одежду, и уже проклинала его, требовала расправы над собой, грозила ему. А он молчал. Молчал и Ингварь. И уйти от неё ему не давала сентиментальность. Но он бы ушёл, если бы она в тот вечер не взяла нож и не начала это кровавое истязание. И когда она обезумела от боли и вряд ли уже что-нибудь различала, он вошёл в её мазохистское безумие и стал для неё богом…
Ему сделалось грустно. Ветер задувал на корму дым из трубы, здесь было неуютно. Ему захотелось разбудить Геннадия и рассказать про девочку. Геннадий поднимет кончики ушей и будет облизываться, как кот. Геннадий пройдоха. Он мотается по всей стране и ничего не видит. Он приходит к Ингварю и как завороженный слушает урода, который никогда не покидает дом. Перед уходом он по привычке протянет руку и смутится всем своим десятилетним сознанием. Он и слушает потому, что оно у него такое.
Не нужно, чтобы он забирал канистру. Мать будет сливать в неё из таза воду, и он сможет ещё несколько раз попутешествовать. Его морской телевизор будет работать, пока не протухнет вода. Тогда он отдаст эту канистру, а сейчас он её спрячет. Он дотягивается до неё зубами и ловко подтягивает её к борту, резким движением головы он бросает её в море. Всё. Остаётся убрать клизму и разбудить Геннадия.
Он прощается с морем, смотрит на него сквозь сетку перил и вдыхает запахи. Они говорят ему о многом. Этой информации хватит не на один день. Ему бы ещё остаться, чтобы понять, почему именно этот пароход и эти пассажиры. Их , и кто-то из них настоящий. Но он утомлён воспоминанием о безумной гречанке, он слишком явно позволил себе воспроизвести тот шёпот на языке, которого он тогда не понимал. Ему хочется забыться, уснуть. Он дует, и лист удаляется, исчезая за гребешками волн. пятьдесят шесть
Ингварь не успевает заметить, как на корме, чуть пониже того места, где был он, появляется человек. Он произносит совершенно нелепую фразу: «Наконец-то я свободен!» и шагает за борт.
Ни полёта, ни всплеска. Край кормы всего на полтора метра выше уровня моря.
Уже совсем темно, под угасающие звуки патефона, с пассажирами, пароход удаляется от точки падения. пятьюдесятью пятью
Правда, в одной из его спасательных шлюпок безмятежно спит легкомысленный Филос. Но он не в счёт.
Ход Зуми
итай – страна большая и многолюдная. К
На юге страны чего только не растёт. На севере тоже. На севере у них даже русские есть – переплывёшь реку Амур – и встретишь русского.
Всё у китайцев есть. И руки на месте, и Китайская Стена имеется, и тибетская медицина на каждом шагу, азиатские йоги встречаются, пагоды из далека видны. Колокольного звона только маловато, и белых медведей не встретишь. Но животный мир разнообразен. Это Хетайрос сразу отметил.
Быт китайский ему тоже понравился. Приём пищи, уборка помещений, посуду моют интересно. И дружелюбны. Китайским языком владеют отлично. Не говорят, а поют. Многие ходят в строгих недорогих мундирах. Очень удобно и выгодно: затеряться легко. И все – заядлые велосипедисты. Педали научаются крутить раньше, чем ходить. Быструю езду обожают. И любят острое и перчёное. Запахи особые, особенно в столице. «Пекин – город контрастов». Всякие дома встречаются – большие и маленькие. В одном месте есть урна, в другом мусор на земле. Есть усатые и безусые, даже высокие китайцы попадаются. А стены – то окрашенные, то нет – так что контрасты очень в глаза бросаются.
Филосу китайская одежда к лицу. С ним почему-то все здороваются, и он отвечает на чистом китайском диалекте. Я, говорит, из Шанхая. А Ядид больше на обкитаевшегося итальянца похож. И выговор у него латино-китайский. Они оба в массы легко вписались.
Один Хетайрос выделяется. Явно не китаец, хотя и с тростью. Больше напоминает интуриста, якобы с переводчиком и представителем власти. Языка китайского не понимает. «Хетайроса васа языка не понимайса», – говорит. Его никто и не спрашивает. Его почему-то игнорируют, а пожилые, завидев его, отворачиваются. Странно даже.
Филос подошёл к одному китайцу и говорит:
«Я из Шанхая, Пекин мне нравится».
А тот отвечает:
«А я родом из города Сиань, зовут меня Хо Дзу-ми».
«Приятно, – говорит Филос, – не соизволили бы Вы проводить нас в Старый город?»
«Завсегда рад, – говорит Хо Дзу-ми, – показать периферийным гостям пекинские шедевры».
И они вчетвером отправились по пыльным пекинским улицам.
Они шли и слушали китайскую музыку. Хо Дзу-ми был в чёрных очках, и это удивляло Хетайроса. Погода совсем не солнечная, а он в чёрных очках. Все остальные китайцы без них, а почему же он выделяется?
Думал он, не додумался и стал на китайских девушек заглядываться. Нравятся они ему: скромницы и труженицы, живут – ни католического, ни православного греха не ведают, бормочут себе буддистские молитвы. Глаза китайские и лица – лунные.
Его особенно поразило, что глаза у здешнего народа сплошь карие. Но Филос сказал, что и здесь встречаются альбиносы. Редко, но бывают. Филос – шанхаец грамотный, он запросто беседует с Хо Дзу-ми.
– Китайцы очень терпеливый народ, – говорит Хо Дзу-ми, – и в принципе архирелигиозный. Они подарили миру порох и чай, и люди изменились кардинально. Я думаю, что это не последний подарок.
– По-моему, они же первые обратили внимание на гусеницу-шелкопряда, – вставляет Ядид, – и, если мне не изменяет память, они же додумались до фарфора, бумаги, компаса и книгопечатания.
– Вам не изменяет память, – улыбается Хо Дзу-ми, – но ещё мы утвердили в мире образец стабильного управления государством, так что человечество всегда может вытащить его из копилки исторического опыта в случае крайней нужды.
– Япония тоже хорошая страна, – вкрадчиво произносит Филос.
Но Хо Дзу-ми пропускает его замечание мимо ушей. Он говорит об искусстве Китая, об иероглифах и сиамских близнецах, он поёт без умолку.
Хетайрос отстал и мечтает о завтрашнем дне. Не понимая ни единого слова, он находится в замкнутом пространстве. Он мир в мире. Его никто не отвлекает. Именно вот таким он и представлял себе Пекин – мельтешащим, желтолицым и пахучим. При внешней серости город ощущается цветным, ярким, в нём, в этом народе, таится колоссальная взрывная сила, о которой именно сейчас заговорил похитревший Филос:
– Реакция может пройти очень быстро. Эта страна может чудесно перемениться в два-три года и тогда изобретёт нечто посложнее пороха. И ещё неизвестно, стоит ли так огорчаться на некоторых плохих китайских руководителей. Вот Япония, например…