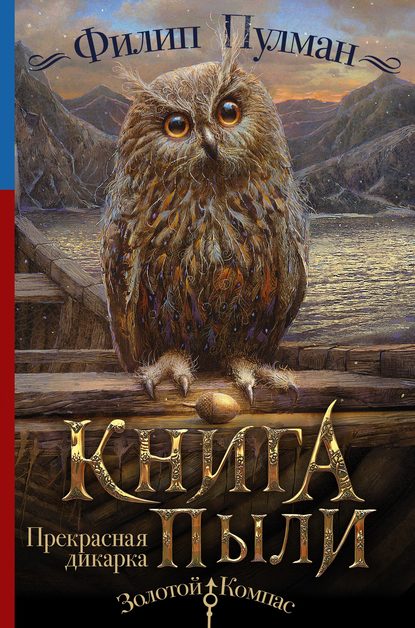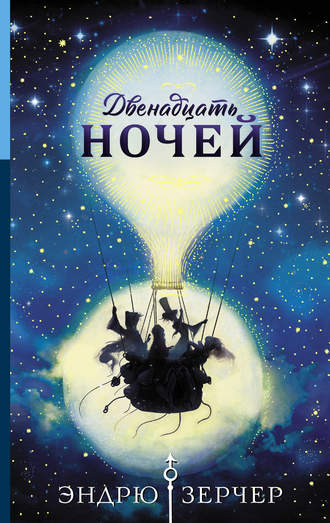
Полная версия
Двенадцать ночей
– Я уже с ним разобрался. Вы опоздали.
Вилли вытянул свою длинную руку и вытащил Кэй из комнаты.
Гадд обошел скрюченное тело на каменном полу Фантазиума. Лежащий был одет в грязные лохмотья, связан грубыми веревками. Только голова была свободна, но волосы на ней склочились, на лице засох пот – и другое, похуже. Два коренастых духа в капюшонах, стоя с одного бока, всё бормотали маниакальные фразы, всё шептали ему угрозы – взрывчато, яростно.
– Он готов?
Один из духов умолк. Он поднял голову и посмотрел на Распорядителя пустым растекшимся взглядом. В полусумраке помещения его зрачки медленно начали фокусироваться, как будто его взор был птицей, прилетающей с порывом ветра из дальнего далека.
– Почти.
– Ничего уже не помнит?
В это мгновение скрюченная на камнях фигура издала прерывистый стон. Она дернулась, толчками рук попыталась растянуть веревки. Гадду пришла на ум красивая бабочка, бесплодно силящаяся выбраться из неподатливого кокона. Он видел такое однажды в жаркое время года, она корчилась в жесткой оболочке до полного изнурения. И до смерти.
Лежащий ловил ртом воздух. Опять застонал.
– Мои дочери…
Полуулыбка сползла с бугристого лица Гадда.
– Помнит одно, – сказал ему дух.
– Работайте над ним! Не давайте ему отдыха. Он мне нужен будет утром в готовом виде.
– Ясно, – промолвил дух и, спрятав лицо во мраке капюшона, снова взялся за дело.
Несколько минут Гадд наблюдал за происходящим. Он тщательно заботился о том, чтобы не издавать ни малейшего шума, даже дыхание свое подстроил под ритмический речитатив служителей с его подъемами и спадами. Слова не были ему слышны, но он знал, что это за слова. Методику он разработал сам. Кормить и кормить жертву ложью, псевдоисторией, фальсифицированными сюжетами, поместить человека в зеркальную комнату, где он безнадежно потеряет себя. Голоса должны повышаться и понижаться, прибывать и убывать, как звук саранчи, поедающей его душевный мир, поедающей его уверенность, в конце концов поедающей все, что он знал или о чем мнил себя знающим. После раздражения у него наступает транс, переходящий в исступление, переходящее в слабость. И, ослабев, он наконец выпускает из рук собственную историю. Он уже не ведает себя.
И тогда он готов. Человек, достигший этой стадии, лишен всякой целостности, он совершенно аморфен. Он поверит во все, доверится всему и, словно он летит в пустоте, схватится за что угодно и тут же возомнит, будто обрел твердую опору. Любой мираж, любое наваждение он примет за надежную, безусловную реальность, любую дикую фантазию – за вечную истину. Он так жаждет убежденности, что все принимает на веру, он до того беззащитен перед всем, что ему говорят и с ним делают, что сам не заслуживает ни малейшего доверия. И в таком вот состоянии полнейшей слабости и уязвимости его можно отпустить. Да, взять и отпустить. Пусть перебивается как может – когда он ни на что уже не способен. Пусть в своем безумии рвет себя на куски. Пусть над ним смеются дети, пусть его пинают прохожие, пусть его примут за бродягу и посадят за решетку, а то и хуже.
Гадд ухмыльнулся. Да, приятно вообразить, как Зодчий, великий архитектор несбыточной надежды, бредет по невесть каким неприветливым улицам, преследуемый детьми и психами.
Было время, ты охотился на нас, подумал Гадд. Пусть теперь на тебя поохотятся.
Он вновь ухмыльнулся, затем повернулся и тихо прошествовал наружу.
5
Каменоломни

Впоследствии Кэй не могла ясно вспомнить, что было дальше; она тащилась коридорами и еще коридорами, если и соединенная с другими, то бесчувственно, как поводками. Голоса, шаги, звуки открывающихся и закрывающихся тяжелых дверей доносились как будто издалека, точно из-за стенки, обитой ватой. Ей запомнилось ощущение долгого спуска, не по лестнице, а по череде протяженных уступов, которые, похоже, все время поворачивали влево. Иногда им встречались другие духи, и малорослые, и долговязые, они шли чаще парами или небольшими группами, реже поодиночке. Она вся была онемение, холод и пустота; кости ног словно бы сделались полыми и подрагивали, как бамбуковые трости. Так много вопросов, и совсем нет сил их задавать…
Несколько раз по пути вниз ноги у нее подгибались. И неизменно рука Вилли была тут как тут, подхватывала ее, не давала упасть – он как будто читал ее мысли, понимал, до чего ее ногам больно, до чего в них пусто. Поначалу она была ему благодарна, но потом начала досадовать. Она хотела упасть. Хотела рухнуть – но он ей не позволял. Да, она знала, что он ей друг, но чем дальше, тем больше чувствовала в его мягкой поддержке руку тюремщика.
Нырнув в низкую арку, они очутились в еще одном пещероподобном помещении, грандиозном и совершенно пустом. Тут не было, в отличие от первых двух залов, ни мебели, ни убранства, ни светильников; но тут было еще намного, намного просторней. На далеком потолке – хотя потолок ли это? – Кэй, изумленно запрокинув голову, увидела крохотные светящиеся точки, похожие на звезды; их узоры, их водовороты и каскады были гораздо насыщенней и упорядоченней, чем созвездия. Слабый свет, который от них шел, очень мало что позволял видеть вокруг, только давал общее ощущение сумрачной необъятной пустоты. На полу пещеры она не приметила вначале ничего особенного, но слух с разных сторон улавливал тихое журчание, словно недалеко протекал ручей; и свежий неутихающий ветерок шевелил ей волосы, когда Вилли, повернувшись, присел на корточки поговорить с ней и сестрой.
– Мы пришли в Каменоломни. Не роскошное место, но тут мы живем. В смысле – мы, духи. В Каменоломнях действует негласное правило: не разговаривать. Гласных правил тут и быть не может, не правда ли? – Он улыбнулся. – Тут мы бессловесны, но ради вас, я считаю, можно и нужно сделать исключение. И все-таки старайтесь говорить потише. Я вам покажу, где поспать.
Снова взяв девочек за руки, Вилли повел их еще ниже, на этот раз по короткой крутой лестнице, спускавшейся в некое подобие колодца. Дойдя до нижней ступеньки, они повернули и через узкую прорезь в стене вошли в комнату, где имелось нечто вроде окна, а сквозь люк в потолке можно было увидеть свод пещеры. Тут и там висели переносные фонари. Обессиленная, Кэй сползла на пол и пристроила Элл у себя на коленях. Вилли закрыл за ними тяжелую деревянную дверь, потянулся к ключу в замке, поколебался – и, передумав, оставил дверь незапертой. Взял со стола буханку темного хлеба, разломил и дал девочкам по куску. Дома от такого хлеба они обе отказались бы: почти черный, грубый, сухой. Но тут Кэй принялась есть с жадностью. Жуя, она услышала воду – здесь она журчала громче.
– Тут река? – спросила она.
– Да, вроде реки, – ответил Вилли; взяв каменный кувшин, он наполнил из него два небольших глиняных стакана и подал девочкам. – Вот вам вода из нее. Когда мы добывали здесь камень столетия назад, мы расчистили берег вдоль одного из древних внутренних русел, по которым текла талая вода от ледника на востоке, она пробилась сюда сквозь мягкий камень в нижней части горы. Мы обнажили русло и стали вести разработку вокруг него, это дало нам очень полезный источник питьевой воды и постоянный источник красивой музыки. Родным домом это трудно назвать, но свои утешения тут есть.
– А звезды? – спросила Кэй, слабым пальцем показывая вверх.
– Мы пробили через толщу горы вертикальные шурфы, в них проникает солнечный свет. Они нужны для вентиляции, но ты должна признать: картина получилась впечатляющая. – Он широко улыбнулся. – Это моя идея была.
Кэй вяло подумала, что сейчас, должно быть, утро. Утро… как это… что происходит… куда мы попали… Она слишком устала, чтобы задавать вопросы; она чувствовала, как они шипят и гаснут в горле, точно сырые свечки.
– С тех пор, как мы поселились в горе́, все занятия наши тут, кроме нашей работы.
Вилли пододвинул маленький стол, стоявший у стены, и два стула. Он посадил девочек на стулья, сам же сел перед ними на пол.
– У вас наверняка тысячи вопросов, – сказал он. – Задавайте. Но тихо.
Кэй попыталась сосредоточиться. Жесткая прямая спинка деревянного стула больно нажимала ей на ребра планками. Поворачиваясь, оглядывая комнату, заставляя себя быть зоркой, она потирала то один, то другой бок. Местами комната была тщательно высечена в скале, местами грубо вырублена. На потолке и полу кое-где виднелись выбоины, следы тяжелых молотков, многие поверхности остались неровными, не до конца обработанными. Но вокруг декоративного окна и декоративной двери напротив проема, через который они вошли, все было иначе. Некий мастер тонкими инструментами любовно обработал каждую грань, каждую деталь, терпеливо изваял каменные фигуры, вырезал колонны с каннелюрами; и, хотя во всем этом не чувствовалось единства – бессистемный коллаж, не более того, – было красиво. Все равно что открыть дверцу старого платяного шкафа, подумала Кэй, и обнаружить за ней густой заснеженный лес. Теперь, когда глаза привыкли к полумраку, она поняла, что камень здесь – не скучный серый гранит, что он синеватый, цвета неба на востоке перед самым закатом.
– Зачем вы добывали здесь камень? Где все это вообще? – спросила она, опять поднимая руку и делая плавный жест в сторону выхода и как бы наружу. За дверь, которую Вилли раздумал закрывать на ключ. Он что, хотел запереться от кого-то? Или, наоборот, их запереть?
Вопросы заставили Вилли мгновенно нахмуриться, словно его укусила оса; он обхватил руками колени, сплел пальцы и опустил подбородок на грудь.
– В Вифинии обитали мы, – проговорил он, и голос его был, почти как эхо, гулок и слаб. Его глаза закрылись, и Кэй ясно было, как тогда, в корзине аэростата, что он продолжит, надо только подождать. – В Каменоломнях добывали небесный камень и переправляли речным путем к морю, в Вифинию. В копях под горой извлекали из недр золото и серебро, то были щедрые жилы, питавшие живое дерево наших парадных помещений. Ныне же Каменоломни – наш дом, а копи…
Элл перебила его:
– Этот… человек с громким голосищем сказал: «Я уже с ним разобрался». Что это значит? Наш папа тут?
Вилли открыл глаза, но взгляда не поднял. Глаза были мокры от слез. Вначале Кэй подумала, что он печалится по родному дому; но внезапно почувствовала, что знает, почему он, закрыв дверь, потянулся к замку, и знает, почему ей расхотелось сейчас его расспрашивать. Она требовала мысленно, чтобы он молчал, не говорил этих слов. Не говорил при Элл. Ей захотелось встать, нагнуться к нему, запечатать ему рот ладонями. Но вместо этого она сидела застывшая, высокая спинка стула давила ей на затылок.
– Нет. Он в другом месте, – начал было Вилли, его голос стал крепнуть – но вдруг он осекся. Палец его правой руки двинулся по ложбинам и гребням рельефного пола пещеры, то чуть ниже, то чуть выше, по боковым и обратным ответвлениям, по полукружиям и кругам. Кэй смотрела на это движение пристально, не сомневаясь, что его выразительные узоры, как при перемещении камешков по сюжетной доске, богаты смыслом. Палец начал приподниматься и вскоре принялся постукивать по полу то тут, то там, словно изображая капель или клюя зернышки.
– Нет, – повторил Вилли более тихим, более мягким тоном, – он в другом месте.
– Где, в каком месте?
Палец постукивал, постукивал по полу. Кэй понаблюдала некоторое время, потом перевела взгляд на сестру. Элл, сидевшая на стуле рядом, была на голову ниже – и при этом ее лицо было так внимательно, глаза так широко раскрыты, золотисто-рыжие волосы так наэлектризованы от общей сосредоточенности, что Кэй почудилось, будто она смотрит на сестру снизу вверх.
– После перемещения, – тихо промолвил Вилли, – разъятие.
– Что это значит? – спросила Элл, не пропускавшая ни звука. Она, как на шарнирах, повернулась к Кэй. – Не понимаю, что это значит.
Вилли молчал, но его палец все еще клевал и нырял, хотя медленнее. Кэй хотела протянуть руку, дотронуться до Элл: она поняла про «разъятие» достаточно, чтобы знать, что это плохо, ужасно, неправильно. Похоже на ликвидацию. Элл, однако, по-прежнему была полна сил и настроена решительно.
Вилли поднял глаза и распластал на полу ладони, словно грея их на грубых складках его рисунка.
– Давайте-ка я вам историю расскажу, – проговорил он.
– Не хочу историю! – выпалила в ответ маленькая девочка. Она не пошла на попятный, какое там – даже не дрогнула. – Я хочу вернуть папу.
– Выслушайте все-таки эту историю, она про потерю и обретение. Порой внутри историй можно найти истины, утешения и пути, которые не столь явны вне историй. Порой истории и есть ответы или делают ответы возможными. Порой они – матери ответов.
Он пристально смотрел сейчас на Кэй, глаза в глаза. Встретившись с ним взглядами, она подумала, что никогда раньше не видела глаз такой спокойной, льдистой голубизны. И возникло чувство, что слезы у нее вот-вот брызнут из кончиков пальцев.
– Много веков назад, когда истории еще не записывали в книгах, большие города и народы рассказывали истории о себе, чтобы помнить, кто они такие, откуда явились и чего хотят для себя и детей своих. Люди, которые рассказывали эти истории, были поэтами, и, поскольку они должны были запоминать множество фактов – имена, места, события, причины и следствия, покрывавшие своей сетью сотни, а то и тысячи лет, – им нужно было искать средства для того, чтобы укреплять свою память. Добавлять ей надежности. Поэтому они снабжали свои истории ритмом и рифмами, разбивали их на строки и строфы, украшали их характерными фигурами речи – все это помогало им всякий раз, как они рассказывали любую историю, помещать каждую ее часть куда нужно. А рассказывали они их часто – каждый вечер, иногда двум-трем детям, иногда целому скоплению народа у большого костра или под звездами летом. Вспоминали, свидетельствовали, прорицали.
По мере того, как Вилли говорил, неустанно водя пальцем по камню, тон его голоса, чувствовала Кэй, снова и снова менялся. Как будто смотришь в калейдоскоп, где краски и контуры обновляются при каждом повороте, образуя нежные, хрупкие орнаменты, похожие на крылья бабочек. Она слышала в его голосе доброту и сострадание, блеск и прозорливость, а под всем этим – музыку, которую хорошо знала: музыку отцовского голоса, мелодию его чтения, долгого чтения в темноте позднего вечера. Элл подала ей руку, и Кэй взяла ее; каким-то образом они сползли со стульев на пол и сидели теперь, прижавшись друг к дружке, в тени, создаваемой голосом Вилли.
– Рассказать историю так, чтобы она и прекрасно звучала, и поражала, и легко запоминалась, – для этого нужны были и великое умение, и дар, этому учились, но только те, у кого была врожденная готовность. Так возникали знаменитые семьи поэтов, сыновья и дочери наследовали эту готовность от родителей, овладевали тайнами речи и сохраняли традиции народа, города, семьи. И они состязались между собой, иных люди ставили невысоко, других выше, и очень немногие считались самыми лучшими.
Лучшим из лучших – намного более знаменитым, чем прочие, и поистине величайшим – был поэт Орфей. Он был в семье единственным сыном, происходил из старинного рода певцов, и дар так им владел, что говорили – своих детей у него не будет, он всего себя вкладывает в голос, ничего не оставляя на отцовство. Его дети – его истории. Куда бы он ни шел, он пел на ходу, и, если у него не было лиры в руках, пальцы все равно танцевали в воздухе, выхватывая ноты из ветерка, из дождя, из снопов света, которые падали утром и вечером между облаков. Еще младенцем, не умея говорить, он усвоил ритмы и интонации древних ладов и мелодий, и они постоянно жили у него в горле. И какое это было горло, какая шея! Горло – сладкозвучней соловьиного, шея – краше лебединой, крепче борцовской. Краса и сила сливались воедино в каждой строфе, в каждой строчке, в каждом слоге.
– Его папа гордился им? – спросила Элл. Кэй бросила на сестру острый взгляд, досадуя на нее, что прервала поток рассказа, и досадуя на себя, что раздосадовалась. Элл выглядела сонной. Глаза у нее слипались.
– Да, очень гордился, – сказал Вилли. – Потому что сын быстро овладел всеми традиционными историями, на которых зижделась слава отца. Он пел о великих битвах, смягчая суровость этих песен любовными интерлюдиями, пел о судьбах славных родов, происходивших от богов и героев. В юном возрасте он уже отличался такой глубиной и широтой повествования, такой памятливостью и страстностью, какие были доступны лучшим певцам только в зрелые годы. Все постоянно судили и рядили: к чему этот великий артист обратится теперь? Где найдет материал? В те дни в обычае у поэтов было, чтобы их пение воспринималось легче, полагаться на некоторые особенности памяти: небольшие фрагменты песни возвращались рефреном, звенели, как знакомый колокольчик, – обороты из четырех-пяти слов, иногда в чуточку преобразованном, но узнаваемом виде, повторялись снова и снова. Это и облегчало ношу поэта, и радовало слушателей: ничто не приносит такого удовлетворения, как возврат чего-то знакомого. Нет ничего милей внезапного послабления тягот, холодной воды в разгар жаркого дня. Орфей был искушен в этих приемах более всех современных ему поэтов, он славился тонкостью, с какой, задав тему или мотив, позволял заданному претерпеть изменение, метаморфозу, а потом лежать мертвым грузом, пока он, певец, не оживит лежащее, не вернет на свет. Если прочие поэты, плетя в своих творениях сеть из тем, иные из тем продолжали, а другие бросали, то про Орфея говорили, что он никогда не теряет ни единого слова. Говорили, что он может позволить слову умереть и отправиться в преисподнюю, но непременно воскресит его до завершения песни.
Кэй ощетинилась. В преисподнюю, повторила она мысленно.
Элл, оказывается, бодрствовала.
– Из преисподней никто не возвращается, – сказала она.
Палец Вилли замер в воздухе, он поднял голову и посмотрел на девочек – на каждую по очереди долгим взглядом. Его глаза были заботливы, наполнены мыслью об их малости и беспомощности.
– Мне продолжать? – спросил он.
Кэй кивнула. Палец Вилли вновь начал двигаться, двигаться. Прошла минута без малого, прежде чем к пальцу присоединился голос.
– Видать, было неизбежно, что такой способный и умелый мастер влюбится в Невесту. К тем, кто ее любит, она никогда не приходит сама собой. Встречи надо искать, добиваться, и путь к этой встрече всегда окольный. Вдруг она является любящему среди его повседневного труда. Так вышло и с Орфеем, когда он пел под раскидистым платаном в одной долине в Македонии. Он рассказывал историю из самых старых – повесть о сотворении мира. В лучших историях ставятся вопросы, на которые нет и не может быть ответа: каким творением был сотворен сам творец? Как это возможно – и созидать, и созидаться этим созиданием? По мере того, как Орфей пел, поворачивая тему так и этак, переходя от сотворения мира к природе своего искусства, облагораживающего то самое бытие, которым искусство порождается и взращивается, он постепенно терял власть над своим пением. Повесть начала обретать свою собственную цель и протяженность, создавая благодаря отходам в сторону как бы обширные складки и полы, присоединяя к главной кайме фестоны отступлений. История за историей сплошной лентой сходили с его измученного языка. Пустившись на поиски чего-то одного, одной великой истории, он сотворил их много. Была уже глубокая ночь, когда ему, приведенному усталостью и ускоряющимся ритмом созидания в какое-то особое состояние, стало видимо нечто новое и ошеломляющее. Голосом, который вдруг сделался громовым, он выпалил это – словно стрелу послал: сама невозможность мироздания и есть его первопричина. Тут проявляется то качество Невесты, что называют самым загадочным.
Той ночью краем глаза сквозь деревца около селения Орфей и заметил первый раз Невесту. На ней, как всегда, было свободное белое платье – то самое, из-за которого ее и прозвали Невестой. Среди деревьев она двигалась молча и была доступна боковому зрению. Невеста только и может являться, что посредством чего-то другого, сквозь что-то другое, как будто она свет в воде или внезапные оттенки, краски, повисающие в воздухе радугой после грозы. Орфей чувствовал это, чувствовал, что не должен смотреть на нее прямо; и он глядел в сторону, песня струилась через его ум и уши, а между тем белое платье подплывало все ближе, пока он не ощутил, как в волосы на затылке вплетается ее дыхание. И он подумал тогда, что если сейчас потеряет ее, если лишится прикосновения, которое, он знал, она вот-вот ему подарит, то никогда больше не добьется ее появления. Он ошибался. То был для него всего лишь первый раз.
Невеста, подумала Кэй.
– Невеста, – сказала она. – Кто она такая? Мой папа с этим работает – с Невестой.
Палец Вилли продолжал двигаться, теперь он танцевал на камнях, как перышко, плывущее по воде.
– Никому не ведомо, кто она такая, – тихо промолвил он.
– Но Орфей же видел ее. Вы сказали: он ее видел. Ну, и как она выглядит? Кто она?
– Она – то, чего никому не удается увидеть ясно. То, что почти ухватываешь, что различаешь, но не до конца, что всегда потом ускользает, теряется, как приснившаяся картина или мысль при резком пробуждении, как отдельная жила, когда смотришь на витую веревку. Или когда любишь кого-то очень-очень сильно и думаешь, что вот-вот на куски разорвешься, – она и есть сам этот разрыв.
– Ох… ох… – вымолвила Кэй, словно бы плача, хотя знала, что в сердце и в голове у нее ясно, сухо. – Он не может ее увидеть.
– Не может, – подтвердил Вилли.
– Невыносимо, – сказала Кэй, крепче обнимая Элл, чье теплое тело обмякло, уступило наконец сну.
– Вот и Орфей не мог этого вынести. Пение кончилось для него в ту ночь, и он потерял тогда Невесту; но она приходила снова и снова. Он так хорошо научился ее вызывать, что вскоре только и надо было, что настроить мысли или речь на знакомый лад, – и возникало ее белое платье без пояса или слышались легкие шаги ее сандалий по траве у него за спиной. Мысли, конечно, всякий раз были другие, ведь мысль – она как след тележного колеса на мягкой дороге, от повторения след превращается в колею, в колеях скапливается жидкая грязь, дорога делается заезженной, труднопроходимой, и это губит Невестин ритм. Всегда поэтому он искал новые истории, новые ритмы, новые формы и звучания, чтобы мысль перекидывалась, как волна, которая без конца бьется о берег, отражается от него, но не разбивается; чтобы он мог каждый день жить ожиданием Невесты, испытывать неведомое ему раньше чувство сопричастности и свидетельства.
Чего поэт не принимал в расчет, хотя другие с самого начала видели, что с ним происходит, – это как голод по Невесте изменял его. Постепенно этот голод разрывал его изнутри. Он без устали искал новых переживаний, новых историй, новых ритмов, новых форм, все новых и новых способов, какими он мог призвать к себе прекрасную, вечно ускользающую, почти досягаемую фигуру, и искусство его от этого поднималось все выше, он стал величайшим поэтом за все времена. Но за все эти новшества и эксперименты, за долгие ночи без сна и дни без отдыха, за месяцы и месяцы, что он простоял, декламируя вечно обновляющиеся, все более сложные, все сильнее трогающие душу поэмы, – за все это приходилось платить. Любовь к Невесте вычерпывала его, выдалбливала, истощала. Его глаза запали, губы побледнели и потрескались, волосы выпадали прядями, мышцы усыхали, кожа делалась землистой, язык – шершавым; и характером, мыслями он становился все более ломким, сухим, нетерпимым. И вот однажды, когда он, покинув горы Фессалии, сел на многолюдном рынке и повел свой поэтический рассказ, по-новому излагая древнюю повесть о потопе, случилось неизбежное. Орфеев ритм приобрел такую мощь, что Невеста вместо того, чтобы тихо, крадучись подойти сзади, бросилась к нему бежать спереди из своего далека. Он пел, окруженный людьми, полными ожидания и восторга, она приближалась, и наконец он поднял глаза и взглянул ей прямо в лицо. И в этот самый миг она замедлила бег, протянула руку и дотронулась до него.
В долгом сумеречном звездном свечении проколотого потолка пещеры Вилли медленно перевел взгляд на девочек – они сидели на полу обнявшись, привалились одна к другой и, судя по ровному, почти неслышному дыханию, крепко спали. Он задумчиво чертил пальцем овалы на каменном полу.
– Вилли, что было потом, когда она до него дотронулась?
Кэй бессонно бормотала, не поднимая обмякших век, ее руки, облегшие плечи Элл, были расслаблены.
– Он разрушился, Кэй. И претерпел разъятие.
– Ведите его.
Двое духов в капюшонах подошли, каждый со своего бока, к скомканной лежащей фигуре, наклонились и, насколько могли, бережно подняли ее во весь разбитый рост. Голова мужчины плохо держалась на плечах, он что-то лопотал, лицо покрывала кроваво-слизистая корка. Кем бы он ни был, он не поднимал глаз. Он был готов.