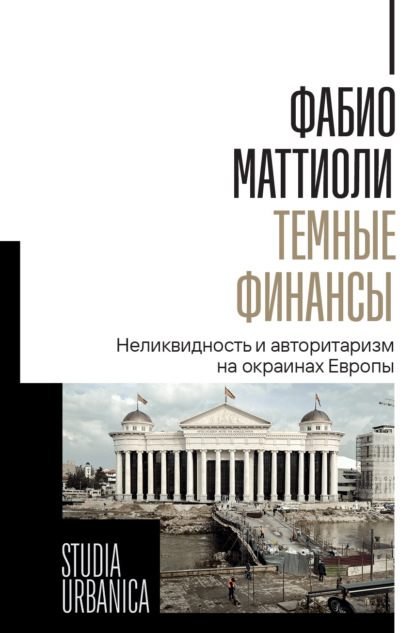Полная версия
Пространственное воплощение культуры. Этнография пространства и места
Если пространство рассматривается как абсолютное, то оно становится «вещью в себе», существующей независимо от материи. В таком случае оно обладает структурой, которая может быть использована для классификации или индивидуализации феноменов. Представление об относительном пространстве предполагает, что оно понимается как отношение между объектами, которое существует лишь потому, что существуют и соотносятся друг с другом сами эти объекты. Пространство можно рассматривать как относительное и в еще одном смысле, в котором я предпочитаю говорить о реляционном пространстве, – это пространство, воспринимаемое в духе Лейбница как содержащееся в объектах: речь идет о том, что объект, можно сказать, существует лишь постольку, поскольку содержит и представляет в себе отношения к другим объектам (Harvey 2006: 121)14.
С точки зрения Харви, отношения собственности создают абсолютные пространства, тогда как перемещения товаров, людей и услуг происходят в пространстве относительном, «потому что оно требует инвестиций денег, времени, энергии и т. д. для преодоления расстояний» (Harvey 1973: 13 / Харви 2018: 17). Примером же реляционного пространства является соотношение друг с другом участков земли – важный аспект человеческой социальной практики (Harvey 1973)15. Реляционные процессы фокусируются на диалектике понимания пространства, и Харви убедительно показывает, что люди неизбежно располагаются во всех трех указанных типах пространства одновременно, но при этом не обязательно соблюдается их равенство. В то же время Харви отмечает, что, несмотря на вдохновляющую новизну этого диалектического противоречия, его сложно применить в каком-либо привычном эмпирическом или позитивистском смысле (Harvey 2006).
Ученик Харви Нил Смит (Smith 1984) предупреждает, что понятие пространства зачастую воспринимается как нечто само собой разумеющееся и поэтому требует критического рассмотрения для обнаружения его противоречивых смыслов. Для самого Смита центральным моментом становится географическое пространство или, в еще более общем смысле, «пространство человеческой деятельности, начиная от архитектурного пространства на низовом уровне и вплоть до масштаба всей поверхности планеты» (Smith 1990: 66). Смит отличает географическое пространство от абсолютного и относительного и заново вводит понятие социального пространства, связывая его с испытывающими влияние марксизма теоретическими традициями при помощи анализа материального производства этого пространства. Для выполнения данной задачи он обращается к трем направлениям исследований, значимым для развития постпозитивистской географической теории: 1) гуманистической географии, заявляющей о значимости субъективных модусов знания, 2) радикальной политической традиции, интерпретирующей пространство одновременно и как цель, и как порождение социальных сил, и 3) концепции производства пространства, предполагающей «рассмотрение географического пространства в качестве социального продукта» (Smith 1990: 77).
Географы-гуманисты анализируют место, а не пространство, исходя из представления Хайдеггера (Heidegger 2001, 2010 / Хайдеггер 2020, 1997) о жительствовании и заброшенности человека в мир. Место определяется в качестве пространства, которое приобрело культурный и интимный характер, с акцентом на обитаемости и ощущении себя как дома. Географы-гуманисты используют для изучения места феноменологические методы, допуская, что связь людей с местом посредством времени или генеалогии является отношением естественного характера (Seamon 2014). Эдвард Релф (Relph 1976) приходит к концепции «безместья», которая возникает в тот момент, когда нарушаются все три составляющие места: физическое окружение, деятельность и смысл, тогда как Джон Эгнью (Agnew 2005) указывает, что аутентичность мест доиндустриальной эпохи утрачена вместе с наступлением единообразия модерна. Смысл и аутентичность также имеют первоочередное значение в тех работах Туана (Tuan 1977), Симона (Seamon 1979, 2014) и Релфа (Relph 1981), где исследуется, каким образом конкретные места уничтожаются современной архитектурой и планированием. Эдвард Кейси (Casey 1993) усиливает аргументацию Релфа, утверждая, что жизнь настолько «местоориентирована», что идея безместности вызывает глубокое беспокойство.
Определение места у Эгнью (Agnew 2005) как «локации, местной специфики и ощущения места» (location, locale and sense of place) формирует преемственность между обобщающими и партикуляристскими концепциями:
Во-первых, место как локация или позиция в пространстве, где помещаются та или иная деятельность либо объект, соотносится с другими позициями или локациями благодаря взаимодействию и перемещениям между ними. Именно так осмысляется город или иное поселение. Второе, промежуточное, определение предполагает рассмотрение места как местной специфики или антуража, в котором происходят повседневные занятия. Локация в данном случае оказывается не просто адресом, а тем «где», в котором происходят социальная жизнь и трансформация окружающей среды. В качестве примеров можно привести такие антуражи повседневной жизни, как рабочие места, жилье, торговые центры, церкви и т. д. В-третьих, место понимается как ощущение места или идентификация с местом, в качестве уникального сообщества, ландшафта и морального порядка. В рамках данной конструкции каждое место является особым и, следовательно, единичным (Agnew 2005: 2).
Это трехкомпонентное определение Эгнью удачно работает в качестве набора дескриптивных категорий и дает четкое определение пространства. Эгнью делает важный акцент, настаивая, что дихотомия пространство/место фактически представляет собой континуум масштабов, протянувшийся между позициями и восприятиями опыта близости и опыта дали.
Географ Мишель Люссо (Lussault 2007) разрабатывает иную грамматику пространства, используя термины масштаба (scale). В таком случае место оказывается мельчайшей неделимой единицей, для которой характерны границы и близость, а пространство выступает сферой или территорией, которая напоминает место, но является делимой и сопряженной с чрезвычайно широкой, открытой и не ограниченной какими-либо пределами сетью связей. Люссо утверждает, что пространство, в котором живет человек,
при более пристальном рассмотрении имеет составной характер: пространство – это смешение, неотделимое, с одной стороны, от материальных форм и структур различных масштабов… вплоть до чрезвычайно разнообразного набора идеальных сущностей, от минимально осмысляемых до наиболее объективируемых, от самых индивидуальных до самых общих, от ментальных образов и репрезентаций, которые более или менее напрямую ассоциируются с чувственным опытом, до самых абстрактных идей, полностью или частично обособленных от конкретного пространственного референта (Lussault 2011: 1–2).
В пространственном анализе Люссо подчеркиваются перформативные функции образов, историй и языка в производстве пространства повседневной жизни (Lussault 2007, 2011).
Интерес к географическому пространству проявляет и такой исследователь, как Эдвард Соджа, но в его работах оно соотносится с пространством тела. Соджа дает теоретическое осмысление пространства как «многослойной географии социально сконструированных и дифференцированных узловых регионов, встроенных во множество различных уровней вокруг мобильных персональных пространств человеческого тела и более устойчивых социальных локаций поселений» (Soja 1989: 8). В этой модели онтологической пространственности человеческий субъект помещается в географическую формацию. В работе «В поисках пространственной справедливости» (Soja 2010) Соджа отдает предпочтение пространству как первичному фактору, однако в разрабатываемой им теории «третьего пространства», напротив, утверждает, что
именно в третьем пространстве сходится воедино всё: субъективность и объективность, абстрактное и конкретное, реальное и воображаемое, познаваемое и невообразимое, повторяющееся и различное, структура и действие, разум и тело, сознание и бессознательное, дисциплинарное и трансдисциплинарное, повседневная жизнь и бесконечная история (Soja 1996: 56–57).
В теории «третьего пространства» Соджа уходит от случайных определений пространства и места, предлагая понимать человеческую пространственность как фактор, обуславливающий социальные изменения.
С другой стороны, Дорин Мэсси (Massey 2005) рассматривает пространство как производное от того, кто в нем обитает: это открытая интерактивная система, взаимосвязи внутри которой предоставляют возможность для социальных и политических отношений между множеством людей. В тезисах Мэсси переплетаются некоторые предметы интереса гуманистов, у которых место основано исключительно на человеческом опыте, и географов-марксистов, у которых пространство есть продукт властных отношений и политической борьбы.
Рассмотренные интегрированные позиции характеризуют использование категорий пространства и места в сегодняшней географии. Многие из приведенных формулировок являются основой для концепций пространства и места в теории архитектуры, психологии среды и антропологии.
Архитектурная генеалогияТеоретики и историки архитектуры больше занимались формой и процессами формообразования, нежели вопросами пространства и места. Определенный интерес к понятию пространства, существовавший у архитекторов между 1890 и 1970 годами, угас в тот самый момент, когда пространственный поворот обрел популярность в социальных науках (Üngür 2011). Адриан Форти в работе «Слова и здания: словарь современной архитектуры» (Forty 2000) прослеживает использование формы и ее отношения к пространству вплоть до Канта (Kant 1781 / Кант 1994). В то же время Форти связывает идею пространства в архитектуре с генеалогией немецких философов, в особенности с такой фигурой, как Готфрид Земпер16 (Semper et al. 2004 [1860]), который «предположил, что первым импульсом архитектуры было огораживание пространства» (Üngür 2011: 132), а материал и форма строения выступали вторичным фактором.
Некоторые архитекторы рассматривают понятие пространства как основополагающее для модернизма. Работа Зигфрида Гидиона «Пространство, время и архитектура: рост новой традиции» (Giedion 1941) положила начало тому «культу абстрактного пространства», который пережил расцвет в 1950–1960‐х годах (Sabatino 2007). Книга Бруно Дзеви «Архитектура как пространство: как видеть архитектуру» (Zevi 1957 [1948]) стала вкладом в это модернистское представление с точки зрения истории архитектуры, которая идентифицирует пространство как определяющее, вдохновляющее и освещающее архитектурные творения таким образом, что их красота – или безразличие – выставляется напоказ. Как утверждает Бернар Чуми (Tschumi 1987), архитектура в свое время была искусством меры и пропорции, позволявшим людям измерять пространство и время. Но, несмотря на это, наряду с «дерегулированием архитектуры», то есть состоявшимся с наступлением модернизма нарушением соотношения между означаемым и означающим, архитектура в большей степени стала подиумом для света и материалов. Бакминстер Фуллер рассматривал это новое отношение между пространством и светом при помощи экспериментов с геодезическим куполом17 и быстровозводимыми конструкциями (Filler 2013). Кроме того, категория пространства появляется в работах Рэма Колхаса, например в его эссе о мусорном пространстве (junk-space) – оставляемых людьми отбросах и отходах, которые загрязняют планету и вселенную останками модернизма (Koolhaas 2001 / Колхас 2015). Во всех этих работах подразумевается, что у пространства есть собственная роль в архитектурном мышлении, но оно остается вторичным в сравнении с архитектурной формой, материалами и замыслом.
Месту как понятию архитектуры придавалось сравнительно мало значения, за исключением работ историка-урбаниста и архитектора Долорес Хейден (Hayden 1995), историка архитектуры Делла Аптона (Upton 2008) и архитекторов Чарльза Мура (Moore 1966) и Ариджита Сена (Sen and Silverman 2014). Мур в своей работе «Создание места» (Moore 1966) уводит архитектурную дискуссию от формалистских представлений о пространстве, фокусируясь на повседневном и вернакулярном (Sabatino 2007).
В попытке отбросить наши стандартные представления о форме и ее создании, а также о пространстве и его значимости я использовал, вероятно, более размытую идею места как упорядочивания всей окружающей среды, в центре которой находятся представители цивилизации, как создания смысла, как проецирования образа цивилизации вовне (Moore 1966: 20).
Наряду со своими коллегами Донлином Линдоном и Джеральдом Алленом, Мур разрабатывал эту концепцию места, исследуя характеристики небольших фрагментов города в работе «Место домов» (Moore 1974). В план для Кресги-колледжа Калифорнийского университета в Санта-Крузе Мур включил кампус с местами для личных встреч, а жилье, которое он в дальнейшем строил в Нью-Хейвене, было организовано вокруг площадей (piazzas) – зон социального взаимодействия18 (Sabatino 2007). Понятие пространства в творчестве Мура отсылает к вернакулярным формам, а традиционная архитектура получает новую интерпретацию в современном обличье.
Делл Аптон точно так же привержен идее оживления рядовой американской архитектуры – в его работах много говорится о месте как «сцене» (Upton 1997: 174). Аптон утверждает, что способ, при помощи которого отдельные места позволяют разворачиваться человеческой деятельности, связан с их символическим значением и невидимыми процессами их производства. На работы Аптона опирается Ариджит Сен, одновременно испытывающий влияние художников, работающих в поле перформативных искусств, и дизайнеров, которые «изучают висцеральную (инстинктивную) вовлеченность в среду и занимаются созданием мест при помощи перформанса, созидания и разыгрывания ролей» (Sen and Silverman 2014: 5).
Наиболее значимый вклад в архитектурное и историко-урбанистическое определение места обнаруживается в работах Долорес Хейден – выше уже упоминалось ее особое внимание к определениям понятия «место». В книге «Сила места» Хейден рассматривает, каким образом множество смыслов и способов познания места превращают его в «мощный источник памяти, в нечто вроде узора, где все взаимосвязано друг с другом» (Hayden 1995: 18). Свое утверждение, что место должно находиться в центре любой истории городского ландшафта, Хейден иллюстрирует при помощи исторических фотографий, личных сюжетов, интервью и архивных документов, используемых ею для того, чтобы воссоздать забытые и исчезнувшие истории рабочих и женщин в центральном районе Лос-Анджелеса и отдать им дань уважения. Место у Хейден предстает не просто научным конструктом, а репрезентацией и свидетельством локальных историй людей, тем самым обеспечивая потенциальное поле для политического сопротивления и активизма на уровне местного сообщества.
Еще одним концептуальным осмыслением места в архитектуре является использование теории ассамбляжа, которая была разработана на базе работ Делёза и Гваттари (Deleuze and Guattari 1987 / Делёз и Гваттари 2010) и Мануэля Деланды (DeLanda 2006 / Деланда 2018) и применена к изучению места Кимом Доуви (Dovey 2010). По его мнению, именно связь между материальными элементами, такими как дома, знаки, товары и люди, создает место, или, согласно формулировке Доуви, «место-ассамбляж» (Dovey 2010: 16). Данное определение используется для более динамичного описания, которое ухватывает изменение и движение мгновенного схождения вещей. Теория ассамбляжа предоставляет способ понимания экспериментального, материального и репрезентационного измерений места без эссенциализирующих (овеществленных) и закрытых смыслов других теорий (Dovey 2010).
Хотя теоретики архитектуры не проявляли такого же внимания к категориям пространства и места, как философы, представители французской социальной теории и географы, следует отметить, что создание, разрушение или перестройка пространств и мест зачастую происходят именно благодаря архитектурным интервенциям. Реакцией на недостаточное теоретическое осмысление отношений человека и окружающей среды и значимости места для людей в архитектуре стало появление такого направления, как психология среды, где заодно критикуется и невнимание к материальному контексту в психологической теории.
Генеалогия психологии средыВ психологии среды понятие места используется для указания на широкий набор смыслов, включая пространственную локацию, ощущение места и констелляцию материальных объектов, обладающих специфическим набором значений и допущений (affordances)19. Представители психологии среды делают акцент на отношениях между людьми и материальным миром, опосредованных опытом и эмоциями, проявляя особый интерес к таким понятиям, как привязанность к месту и идентичность места, в которых прожитый опыт осмысляется как встроенный в ощущение человеком своего «я» и групповую идентичность (Low and Altman 1992, Low 1992, Duyvendak 2011, Manzo and Devine-Wright 2014). Задача понять взаимодействия между человеком и окружающей средой через опыт восходит к интересу географа И-Фу Туана к месту как уникальной и сложной среде, укорененной в прошлом, и формулируется на основании следующего его предположения:
Место выступает инкарнацией различных видов человеческого опыта и надежд. Место является не только фактом, требующим объяснения в рамках более масштабной структуры пространства, но и реальностью, которую необходимо прояснить и понять с точки зрения людей, наделяющих ее смыслом (Tuan 1979: 387).
Предложенные Туаном гуманистические интерпретации места используются в большинстве эмпирических исследований взаимодействия человека и среды и в поведенческих науках с применением ряда качественных и количественных методологий, включая этнографию.
Психологию среды от других направлений психологии отличает сосредоточенность на включенности индивида в окружающую среду и неотделимости от нее. Например, Харолд М. Прошански, один из основателей этого направления, использует понятие идентичности места для осмысления своего тезиса о том, что объекты материального имущества и различные измерения городского контекста одновременно являются социальными, культурными и психологическими по своей природе. Задача, которую ставит Прошански, заключается не в создании новых разновидностей детерминизма экологического или архитектурного толка, а в перемещении «оптики» анализа с социального контекста на материальный, которым зачастую пренебрегают (Proshansky 1978). Как утверждает Прошански,
городская среда, по сути, представляет собой антропогенную среду (built environment), которая не только выражает человеческое поведение и опыт, но и формирует их и оказывает на них влияние. В силу того, что место-идентичность (place-identity) индивида одновременно предопределяет это взаимовлияние личности и среды и модифицируется им, для психологии среды место-идентичность становится ключевым исследовательским инструментом. Кроме того, поскольку любой материальный антураж (искусственный или иной) одновременно представляет собой психологическую, социальную и культурную среду, место-идентичность является теоретическим конструктом, совершенно неотъемлемым для понимания развития и выражения других субидентичностей индивида, например пола и рода занятий (Proshansky 1978: 156).
Концептуальный подход, разработанный Прошански, получает дальнейшее развитие у Орестиса Дроселтиса и Вивиан Л. Виньоль, которые различают «три измерения идентификации места: привязанность/саморасширение, средовое соответствие и конгруэнтность места и „я“» (Droseltis and Vignoles 2010: 23). Эти авторы рассматривают идентичность места и прочные связи с местом в качестве единой модели, хотя другие теоретики утверждают, что аффективная привязанность к месту и идентичность места являются отдельными конструкциями (Hernández, Martin, Ruiz and Hidalgo 2010), либо аффективная привязанность к месту поглощает идентичность места (Hinds and Sparks 2008; Kyle, Graef and Manning, 2005), либо же идентичность места и аффективная привязанность к месту поглощаются иным конструктом наподобие ощущения места (Jorgensen and Stedman, 2001).
В еще одном активно исследуемом аспекте опыта места – привязанности к месту (place attachment) – уделяется внимание различию между абстрактным пространством и наполненным смыслом местом (Lewicka 2011). Даже в эпоху глобализации идея привязанности к месту остается жизнеспособной в силу нарастающей в нашем турбулентном мире политической значимости места, определяемого как локальное сообщество. Однако некритическое использование понятия места в рассуждениях о привязанности к месту подчеркивает
противоречия между дисциплинами, проявляющими интерес к 1) социокультурным аспектам места, таким как привязанность к сообществу, 2) биофизическим аспектам места с акцентом на «антураже или вместилище» и 3) интеграции динамики социокультурных и естественных антуражей в исследования привязанности к месту (Raymond, Brown, and Weber 2010: 422).
Примечательным моментом проделанной психологами среды работы является устойчивый акцент на характеристиках личности, а не собственно места. Это настолько заметно, что Лейла Скэннелл и Роберт Гиффорд обеспокоены, что в случае, когда «привязанность ориентирована на других людей, которые проживают в этом месте, а не на отдельные аспекты самого места, эта привязанность считается имеющей социальную основу связью с местом (place bond)» (Scannell and Gifford 2010: 4). Другие исследователи допускают, что привязанность может заключаться в физических особенностях и материальности конкретного места. В таких работах, как Stokols and Shumaker (1981), a также Low, Taplin and Scheld (2005), в качестве компонентов привязанности к месту выявляются физические характеристики, элементы материальной культуры и географические маркеры, в особенности предоставляющие возможности (инфраструктуру или ресурсы) для поддержки людей и их социальных и психологических целей. Широкий спектр антуражей, от искусственных до естественных сред, а также масштабный набор методов и примеров их применения представляют в своей работе о привязанности к месту Линн Мэнзо и Патрик Дивайн-Райт (Manzo and Devine-Wright 2014). Они демонстрируют, что, несмотря на указанные выше успехи в теории и методологии, в самом понятии привязанности к месту сохраняется исходная идея, что люди всегда воплощены (embodied) в месте и встроены в него.
Специалисты по психологии среды определяют место как результат взаимодействия человека со средой либо как посредника в этом процессе и не различают категории пространства и места. Пространство в этой области исследований было выявлено как значимое понятие лишь недавно (Gieseking, Mangold, Katz, Low and Saegert 2014). Место в рамках психологии среды по-прежнему сохраняет отдельные элементы своих гуманистических оснований благодаря работам Туана (Tuan 1979) и других исследователей, которые используют образы места и воображаемые представления о нем, связанные с расположением значимых сообществ и локальной культурой. Сложности с этим допущением возникают и у антропологов, однако последние достигли более значимых результатов в разработке теорий и методов, выходящих за рамки данного ограничения.
Антропологическая генеалогияМногие антропологические концептуализации проистекают из представления французского социолога Пьера Бурдьё о том, что пространство не может обладать значением отдельно от практики. Например, теория практики Бурдьё становится отправной точкой для работы Генриетты Мур (Moore 1986), посвященной интерпретации способов, при помощи которых пространство наделяется гендерно дифференцированными значениями у эндо, одной из групп народа мараквет в Кении. В этнографическом исследовании Мур пространство приобретает значение лишь в тот момент, когда акторы задействуют его в практике, однако Мур не останавливается на этом и задается вопросом, почему в данных интерпретациях доминируют значения, которые выгодны для мужчин. Например, женщины эндо отождествляются с домом, но значения, подразумеваемые при использовании домашней сферы, ставят на привилегированное место экономическое и социальное положение мужчин. Пространства, с точки зрения Мур, подчинены множеству интерпретаций, но при этом она отвергает идею о том, что господствующие и лишенные голоса группы (соответственно мужчины и женщины) обладают разными культурными моделями, производящими особые интерпретации пространства. Напротив, мужчины и женщины располагают одной и той же понятийной структурой, но вступают в нее в разных статусах и поэтому подвергают ее разным интерпретациям (Moore 1986). Эти изобретательные интерпретации обусловлены представлением о полисемичности (многозначности) пространств.
Маргарет Родмен (Rodman 1992) разделяет позицию Мур о том, что пространства обладают уникальными реалиями для каждого их обитателя, и даже при наличии общих смыслов с другими людьми представления других людей зачастую оказываются конкурирующими и оспариваемыми. Для указания на эти территории личного и культурного смысла Родмен использует понятие места, а не пространства, предполагая, что антропологам следует наращивать потенциал именно категории места, возвращая контроль над его смыслами тем, кто действительно его формирует, а многоголосие обитателей конкретного места должно вдохновлять антропологические исследования этого места (Rodman 1992). Для реализации этих задач Родмен предлагает понятие мультилокальности, описывающее различные аспекты места (мест), затронутые воздействием модерна, имперской истории и современных контекстов. Помимо согласования полисемичных смыслов, концепция мультилокальности предназначена для понимания множественных незападных и неевропоцентричных точек зрения на конструирование места, что позволяет проводить более децентрализованный анализ. Кроме того, мультилокальность полезна для понимания сети взаимосвязей между отдельными местами, а также рефлексивных качеств формирования идентичности и конструирования места в условиях, когда люди все больше перемещаются по земному шару (Rodman 1992).