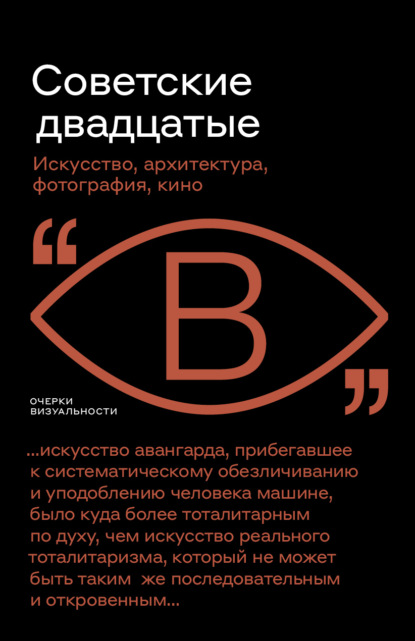Полная версия
Подражание и отражение. Портретная гравюра в России второй половины XVIII века
В обзоре Салона 1765 года Дидро называл гравера «переводчиком живописца», который «должен отразить талант и стиль автора оригинала», ибо
гравер по меди – это, в сущности, прозаик, задавшийся целью перевести поэта с одного языка на другой. При этом неизбежно пропадают краски, но зато остаются смысл, рисунок, композиция и персонажи со свойственным каждому выражением24.
В 1767 году, предлагая приобрести гравированные доски Ж. Ф. Леба, Дидро ссылался на невозможность того, «чтобы в России когда-либо скопилось достаточное количество картин, способное внушить подлинный интерес к искусству». С его точки зрения, этот недостаток следовало восполнить гравированными изображениями, ибо «гравер своего рода апостол или миссионер: надо читать переводы, когда не имеешь подлинников»25.
В 1775 году на страницах журнала Mercure de France Ш.‐Н. Кошен – младший побуждал читателей
не относиться к превосходным граверам как к простым копиистам; они – скорее переводчики, которые переводят красоты одного языка, очень богатого, на другой язык, по правде говоря, менее богатый, но представляющий некоторые трудности и позволяющий создавать равноценные произведения, вдохновленные гением и вкусом26.
Применительно к эстампам, исполненным по живописным оригиналам, авторы теоретических трактатов, как правило, также использовали понятия «перевод» или «интерпретация»27.
При этом, называя гравюры переводами, люди XVIII века, очевидно, не воспринимали их как второстепенные по отношению к живописи памятники. В эпоху, когда господствовала эстетика, ориентировавшая художников и писателей на следование образцам, в частности, в литературе создание перевода античного текста представлялось как равноценное написанию нового оригинального сочинения явление; соответственно относились и к искусству гравера. В 1779 году в отзыве Академии русского языка и словесности о переведенных В. П. Петровым первых шести песнях поэмы Вергилия «Энеида» (Еней, героическая поема Публия Виргилия Марона. Песни I–VI. СПб., 1770) переводчик был не просто удостоен высокой похвалы, но и приравнивался к автору, чье сочинение он перевел и с которым мог достойно соперничать:
Виргилий нашел в господине советнике Петрове страшного соперника, и красоты сего избраннейшего римского стихотворца сделались нашим стяжанием посредством прекрасного сего переложения; желательно, чтоб и образец Виргилиев (т. е. Гомер) был подарен российским письменам сим выразительным прелагателем28.
Поэт В. В. Капнист восторженно писал о переводе «Илиады» Гомера, сделанном Е. И. Костровым и опубликованном в Санкт-Петербурге в 1787 году:
Седмь знатных городов Европы и АсииСтязались, кто из них Омира в свет родил?Костров их спор решил:Он днесь в стихах своих РоссииОтца стихов усыновил29.Важно и то, что в Императорской Академии художеств с момента ее основания в 1757 году обучение начиналось с копирования произведений, признанных образцовыми. Это вообще было значимой составляющей академического художественного образования в Европе и позволяло юным ученикам осваивать приемы величайших мастеров. Однако в XVIII веке копирование являлось не только элементом обучения, но и частью художественной практики зрелых художников, которые часто обращались к различным изобразительным источникам в поиске сюжетов, композиций и иконографии30. В это время подражания, переводы и следование образцам не представляли собой ничего предосудительного для художника или писателя, а ориентация на образец не являлась поводом считать такую работу второстепенной по отношению к оригиналу.
Гравер-подражатель
С начала XIX столетия, после публикации каталога «Живописец-гравер», составленного австрийским ученым и художником Адамом Барчем31, возобладал иной подход, основанный на предпочтении оригинальности замысла и спонтанности творческого процесса. В кратком предисловии к этому масштабному изданию Барч утверждал, что эстампы, созданные художниками по собственным оригиналам, почти всегда превосходят гравированные воспроизведения живописных полотен, исполненные другими мастерами, ибо в первом случае ничто не могло препятствовать верной интерпретации замысла живописца32.
Подход Барча, ставившего во главу угла оригинальный гений художника, оказался созвучен идеям романтизма и в XIX веке стал общепринятым, сменив прежнюю эстетику, основанную на подражании образцам. Сформировавшийся в значительной степени под влиянием традиции коллекционирования рисунка, он по сей день сохраняет актуальность в среде знатоков и коллекционеров33.
В России схожие идеи были выражены в начале XIX века почетным членом Петербургской Академии художеств А. А. Писаревым34. В своем трактате «Начертание художеств, или Правила в живописи, скульптуре, гравировании и архитектуре» (1808) Писарев отождествлял процесс воплощения в гравюре живописных оригиналов с факсимильным воспроизведением. Он называл эстампы, снятые с картин, второстепенным искусством, требующим «одного только подражания» оригиналам, полагая, что гравюра только тогда станет подлинным искусством, когда самостоятельно будет следовать природе («гравирование принято будет за подлинное искусство, изображающее природу средствами ему только свойственными»)35. Вместе с тем Писарев признавал особенную ценность эстампов в их способности тиражировать образы, ибо
в то время, когда славная подлинная… картина хранится в кабинете частного человека, где некоторые только приближенные могут оную видеть, вернейшие эстампы с оной картины дают знать всем любителям причину похвал и уважения36.
Несколько иную точку зрения представил автор статьи «Взгляд на славнейших живописцев в XVIII веке», увидевшей свет в 1807 году в «Журнале изящных искусств»:
В недавних веках великий удар нанесло живописи изобретение гравирования. Сие обстоятельство причинило вред не столько особенным способом представления, сколько точным подражанием предметам картин. Оно размножило отпечатки, распространило эстампы и сделало их дешевле. Частные люди могли украшать домы свои прекрасными эстампами за умеренную цену, и по множеству их могли выбирать лучшее. Тогда картин уменьшилось и стало реже; потому что оне были несравненно дороже эстампов, и живопись лишилась прежнего подкрепления и покровительства. Вот пагубные следствия нового изобретения!37
В этом замечании чувствуется высокая оценка автором художественного качества многих гравюр, и примечательно, что он признавал за эстампами «особенный способ представления», который мастера сочетали с «точным подражанием» живописным оригиналам. Гравюра настолько успешно справлялась с этой задачей, что даже вызывала у него опасение своей способностью составить мощную конкуренцию живописи.
В это время, в том числе под влиянием романтизма, значительно возрос интерес к национальной истории, а в изучении русской печатной графики начался процесс накопления сведений о жизни и творчестве мастеров38.
Гравер-интерпретатор
Вторая половина XIX века стала переломным периодом в восприятии взаимоотношения гравюры и живописи в России. Широкое распространение литографии, а также фотографии, цинкографии, фототипии и прочих фотомеханических способов тиражирования изображений подтолкнуло исследователей и любителей гравюры к тому, чтобы обратить внимание на особые художественные качества эстампов. Симптоматично, что в эти годы некоторые историки, художественные критики, художники и коллекционеры при описании как старых, так и современных гравюр возвращались к идеям теоретиков XVIII века.
Например, в 1851 году историк и коллекционер М. П. Погодин выступил в защиту гравюры, лучшие произведения которой, с его точки зрения, были результатом сотворчества граверов и живописцев. На торжественном обеде, устроенном в 1851 году в Москве в честь художников И. К. Айвазовского и Ф. И. Иордана, Погодин восклицал:
Какое место занимает гравировальное искусство между искусствами? Оно занимает место второстепенное, по общему мнению: гравер, говорят, есть раб своего оригинала <…> он не может выразить своего Я. Не так думаю я <…> Мы видели все гравюры Преображения и сравнивали их между собой, – во всех недостает чего-то, что мы встречаем, однако ж, в гравюре Йордановой, что напоминает нам живее самый подлинник. Вот это излишнее и есть плод его творчества, без которого, милостивые государи, нет успеха ни в чем, ни в картине, ни в гравюре, ни в книге, – есть живое доказательство его симпатии с душою Рафаэлевой39.
Вскользь брошенное Погодиным: «по общему мнению» – указывает на то, что в это время преобладало представление о гравюре как о второстепенном искусстве, против чего историк и выдвигал понятия «излишнего», творческого порыва, выражения собственного «я», с его точки зрения в равной мере составляющие достоинства и живописи, и гравюры.
В это же время в связи с распространением фотографии в художественных кругах начались споры о соотношении этого нового способа воспроизведения с традиционными видами искусства. Особенно остро встал вопрос о связи фотографии и гравюры. Этой проблеме была посвящена одна из статей художественного критика и историка искусства В. В. Стасова, опубликованная в журнале «Русский вестник» в 1856 году, когда ее автор был увлечен исследованием произведений печатной графики и фотографических материалов, поступавших в собрание Императорской публичной библиотеки в Санкт-Петербурге (ныне РНБ)40.
Распространение фотографии, которая, по мнению Стасова, представляла собой «великое изобретение, одно из полезнейших и замечательнейших изобретений нашего века», стало для него поводом по-новому взглянуть на эстампы, оценить их художественные возможности в отражении оригиналов. В частности, размышляя о гравюрах XVII века, он замечал, что
вся эпоха нидерландо-французская, наполовину состоявшая из граверов-творцов и из граверов-копиистов (но таких копиистов, которые стоят в ближайшем родстве и связи с живописцами и часто далеко превосходят их), представляет также, в свою очередь, высшую степень, на которую в то время могло взойти граверное искусство41.
Сравнивая работу гравера и фотографа в их умении воспроизводить живописные полотна, Стасов подчеркивал, что гравированные изображения, в отличие от фотографий, представляли собой не механические повторения, а именно интерпретации оригинальных произведений:
Мы сказали, что сто отличных граверов произведут с одной и той же картины сто совершенно разных гравюр; пускай точно так же сто отличных фотографов станут фотографировать один и тот же предмет – мы получим от всех одну и ту же, нисколько не разнообразную картинку42.
Интересно, что мнения Погодина и Стасова оказались созвучны высказанным в те же годы наблюдениям французского художника Эжена Делакруа. Вслед за Дидро, Кошеном и Шоффаром он считал, что гравюра – не что иное, как перевод, ценность которого не в подражании, а в умении выразить на ином языке собственное отношение к изображаемому предмету. В данном случае под «переводом» Делакруа подразумевал «искусство переносить идею, выраженную в одном искусстве, в другое, подобно тому как переводчик делает это с книгой, которая написана на чужом языке и которую он переводит на свой». Гениальность гравера он видел в своеобразии его языка, которое состояло не только в подражании своими средствами эффектам живописи («являющейся как бы чужим языком»), но в выражении, одновременно с точной передачей оригинала, своего собственного чувства43. Делакруа связывал упадок гравюры в середине XIX столетия прежде всего с появлением менее трудоемких и дорогостоящих, чем гравюра, способов воспроизведения (таких, как литография и фотография). При этом он осуждал современных граверов за их чрезмерное стремление демонстрировать свое виртуозное владение техникой, что, с его точки зрения, могло лишь отвлечь внимание зрителя от главного содержания образа44.
Те же аргументы в пользу творческих возможностей эстампов приводил в 1876 году немецкий искусствовед чешского происхождения, эксперт в области гравюры и чешского искусства, «инспектор Брауншвейгского музея» И. Э. Вессели, чья книга о распознавании и собирании гравюр была переведена на русский язык в 1882 году. Для Вессели не было сомнений в художественной ценности гравюр, независимо от того, создавались они по собственным рисункам граверов с натуры или по оригиналам, исполненным другими художниками:
…может явиться сомнение относительно самого художественного характера гравюры. Если последняя служит лишь родам искусства, то ведь значение ее только второстепенное, она не имеет самостоятельной цели, она не глава, а слуга, не автор, а только переводчица. Но разве она просто копирует произведения других родов искусства? Нисколько! Копия передает известное произведение тем же способом, теми же техническими средствами, какими создан и оригинал. В гравюре же художественный сюжет переносится в другую область, для чего требуется самостоятельная духовная деятельность. <…> он [гравер], следовательно, не рабски копирует, но в самом деле самостоятельный художник, приступающий свободно к делу и так же свободно его завершающий.
Примечательно, что Вессели обосновывал различие между копированием и самостоятельным воспроизведением различием технических средств. Кроме того, он приводил в пример французского гравера Жерара Одрана (1640–1703), который, как он считал, не только создавал в гравюре равноценные воспроизведения оригиналов Шарля Лебрена, но даже умел обойти недостатки его рисунка и таким образом способствовал большей славе живописца45.
Живописные и гравированные портреты как документы эпохи
Признание художественной ценности эстампов, творчески интерпретировавших оригиналы, в кругу любителей и исследователей в середине – второй половине XIX века совпало с публикацией широкого круга материалов по истории русской гравюры и стремительно возраставшим в то время интересом к ней со стороны коллекционеров46. В предисловии к изданию упомянутого выше труда И. Э. Вессели переводчик С. С. Шайкевич обращал внимание на то, что в Санкт-Петербурге и Москве любовь к гравюрам, особенно созданным в России, настолько возросла, что вызвала «почти невероятное повышение цен» на них в самой стране и за рубежом47.
Портретные эстампы, созданные русскими мастерами, входили в состав коллекций выдающихся деятелей культуры, таких как издатель и историк П. П. Бекетов48, знаток русской истории и древностей П. Ф. Карабанов49, известный мемуарист Ф. Ф. Вигель50, юрист и крупнейший исследователь русской и западноевропейской гравюры Д. А. Ровинский51, предприниматель и коллекционер А. В. Морозов52, историк Н. Д. Чечулин53, искусствовед С. Н. Казнаков54 и многие другие.
Для исследователей и коллекционеров этого времени гравированные изображения представляли интерес прежде всего с точки зрения иконографии, как ценные исторические документы. Однако некоторые авторы уделяли внимание вопросам художественной интерпретации в них живописных образов. В частности, Ровинский, автор первых в России фундаментальных работ по истории русской гравюры, неоднократно высказывался на эту тему55.
В его «Подробном словаре русских гравированных портретов» эстампы с изображением одного и того же лица размещены по принципу соответствия живописным оригиналам или же «типам», а сами «типы» – в хронологическом порядке. Важно и то, что Ровинский счел необходимым сопроводить свое исследование очерком о живописных портретах, сохранявшихся в те годы в ряде частных и общественных собраний, а в заключение привести заметки одновременно о портретной живописи и гравировании в России.
Кроме того, в 1886 году в Санкт-Петербурге вышел в свет первый том «Художественной энциклопедии» русского писателя и художественного критика Ф. И. Булгакова, в котором содержалась обширная статья о технике гравюры на меди56. Помимо подробного описания особенностей гравюрных техник и краткого обзора истории гравюры в России, в этой статье затрагивалась проблема воспроизведения в гравюре работ других художников.
Гравер – самостоятельный творец
Процесс эстетической реабилитации гравюры, начавшийся во второй половине XIX столетия, достиг кульминации на рубеже XIX–XX веков. С 1890‐х годов особенную актуальность в художественной среде обрели идеи служения абсолютной красоте и преобразования жизни по законам искусства, воплотившиеся несколько позже в стиле модерн. В представлении «мирискусников», отстаивавших индивидуализм и свободу творчества, искусство было единственным чистым источником красоты. С этих позиций они оценивали и художественное наследие прошлого. В то время печатную графику стали воспринимать как одно из важнейших явлений художественной культуры. И это было симптоматично для эпохи, увидевшей искусство там, где его раньше не видели. Особо стоит отметить вклад А. Н. Бенуа. В статье 1910 года в журнале «Искусство и печатное дело» он ввел новый термин «графика», сформулировав цели и проблематику этого самостоятельного вида творчества и его отличия от других видов искусства57.
Хотелось бы обратить внимание на то, что исследователи и собиратели этого времени игнорировали подражательные возможности эстампов, представляя граверов прежде всего как самостоятельных творцов, а гравюру – как высокое искусство, обладающее собственным языком. По сути, произошло нечто обратное «перевороту», произведенному публикацией Барча в начале XIX века. Только теперь граверы и коллекционеры, сравнивая эстампы с фотомеханическими репродукциями, оценили в первых «спонтанность», «неточность» и «оригинальность».
Значительную роль в привлечении общественного внимания к гравюре сыграли выступления на масштабных съездах художников в Москве и Санкт-Петербурге. В частности, доклад московского коллекционера Н. В. Баснина, прочитанный в 1894 году на Первом съезде русских художников и любителей художеств в Императорском Историческом музее в Москве, был посвящен роли гравюры в изобразительном искусстве58. Подобно Стасову, Баснин утверждал, что «все остальные, механические способы воспроизведения, как фотографирование, фототипия, гелиогравюра и т. д., не могут заменить гравюры, потому что не представляют собой художественного произведения, они только должны вывести гравюру на более самостоятельную деятельность, уничтожив ее ремесленную часть»59.
С особенной энергией и убедительностью представление об уникальных художественных качествах эстампов было высказано граверами В. В. Матэ и его учеником Н. З. Пановым, выступившими с докладами на Всероссийском съезде художников в Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге в январе 1912 года.
С сожалением замечая, что вследствие изобретения фотографии широкое распространение гравюры прекратилось, Матэ сравнивал гравированные изображения с фотографиями, выделяя особенную «неточность» первых, что, с его точки зрения, придавало воспроизводимым оригиналам «новые оттенки» и позволяло «любоваться новым скрытым богатством авторов-художников». Матэ подчеркивал:
Гравер, не могущий конкурировать с фотографом в математической точности, все же остается художником если не буквально, то в смысле истолкования. <…> Гравер не может не быть самостоятельным творцом. Как музыкант берет чужие произведения и дает как бы новое сжатое музыкальное произведение, так и гравер упрощает сложную симфонию красок и передает ее в черном и белом. Как художник-музыкант транспонирует произведение для инструмента, так и гравер передает картину только в двух красках, вызывая богатство светотени и колорит. <…> Гравюра имеет свой язык, сочетание штрихов, светотень <…> Тон бумаги в сочетании со штрихами, глубоко въевшимися в бумагу, дает тон непередаваемой красоты, распознает оттенки светотени; бархатистая и серебристая игра штрихов красивее звучит у гравера, чем у живописца; это – своеобразная прелесть, которая дает гравюре право гражданства60.
Вдаваясь в преувеличение, объяснимое увлеченностью автора предметом, Панов, в свою очередь, утверждал, что
основы гравюры величавы, просты и детски искренни, но душа художника ни в одном из искусств не запечатлевается так детально, так ясно, со всеми ее переживаниями момента и тончайшими ощущениями игры творческой мысли – как только в гравюре.
Перечисляя особенности гравюры, отличающие ее от других видов искусства, Панов выделял гравюру как
область, где господствует во всей своей чистоте прародительница всего изобразительного искусства – линия, чуждая всяких прикрас, не затонувшая в атмосфере воздуха и красок. <…> Гравюра скромна и аристократична, – уединенна и обособлена. <…> Только истинным любителям гравюры понятны ощущения трепета и восторга перед первым оттиском гравюры. Ее глубокие, бархатистые тона еще не остыли от появления на свет, еще тепла в них жизнь, еще чувствуется момент рождения живого существа61.
Когда сами Матэ и Панов в своих гравюрах обращались к тем или иным живописным или графическим оригиналам, они, очевидно, видели свою миссию не столько в том, чтобы сделать работы воспроизводимых художников более известными, сколько в возможности поделиться со зрителем собственным представлением о художественных качествах оригиналов, их «скрытым богатством» или найденными в них «новыми оттенками», раскрывая через это свою творческую индивидуальность.
Границы живописи и гравюры
Между тем выдвижение графики на авансцену художественного процесса породило необходимость осмысления границ этого вида искусства. Неслучайно в кругу художников и исследователей в это время одним из наиболее актуальных вопросов стал вопрос отличия графики от живописи.
В частности, в 1908 году был опубликован русский перевод книги «Живопись и рисунок» (1891), написанной немецким художником, представителем символизма М. Клингером. Ее автор акцентировал внимание на различном отношении живописи и графики к воплощению реальности. Называя живописью любое изображение посредством масляных красок, гуаши, акварели и пастели, а рисунком – не только рисунок от руки, но произведения графических искусств вообще (гравюры на меди и на дереве, а также литографию), он утверждал, что если живопись «имеет задачей найти выражение в гармонической форме для красочного мира тел» и «главной ее задачей остается сохранение единства впечатления», то «рисунок находится… в более свободном отношении к изображенному миру»62.
Формулируя в 1909 году свою философию искусства, датский философ, представитель неокантианства Бродер Христиансен в качестве главного аспекта отличия живописи от графики выделял принципиально иной характер изображения пространства. Христиансен считал, что противоположность между живописью и графикой изначально была связана с их стилистической противоположностью, в основе которой – различие пространственных постулатов, ибо «то, из чего берет свое начало стилистическая противоположность, – это трактование пространственной глубины». Если картины «хотят заставить нас забыть о плоскости – носительнице изображения», то рисунки «не должны стирать плоскостный характер носителя изображения. Рисунки, гравюры, офорты, будучи сами по себе плохо видны, с самого начала должны быть выдержаны так, чтобы могли быть отпечатаны или наложены на большую картонную поверхность», они должны «сознательно выдерживать плоский характер рисунка, даже там, где изображается пространственная глубина». Поэтому,
перенося предназначенную для пластической рамы картину на картон или на поверхность страницы, мы ставим ее на одну ступень с рисунком, чего не допускает ее стиль. Чем строже хранит картина свой стиль, тем неприятнее будет впечатление от ее репродукции <…> И чем менее картина осуществляет стилистические постулаты живописи, тем лучше она покажется на странице книги.
Чтобы сохранить пространственное впечатление, задуманное создателем живописного произведения, и вместе с тем помешать репродукциям выступать с притязаниями на собственную эстетическую ценность, Христиансен предлагал воспроизводить картины вместе с их рамами. С его точки зрения, учитывая стилистическую противоположность между живописью и гравюрой, создатель эстампа, воспроизводя некий живописный оригинал, должен был осуществить его «полный перевод» на язык графики:
Мы наблюдаем далее, как в нашем культурном мире картина начинает господствовать, и при этом случается, что другие ветви изобразительного искусства, к немалому вреду для себя, примыкают к стилю живописи. Гравюры по меди и дереву хотят служить репродукции картин, не думая о полном переводе на язык графики, и необходимо теряют свой собственный стиль. И вследствие этого господства картины все более исчезает способность чувствовать и понимать мелодический язык линий63.
«Философия искусства» Христиансена была опубликована в русском переводе в 1911 году и повлияла на русскую культуру первой трети XX века.
Знакомый с трудами Христиансена русский богослов и ученый П. А. Флоренский в 1922 году, развивая его идеи, соотносил иконопись, живопись и гравюру с разными направлениями христианства, противопоставляя католическую чувственность масляной живописи протестантской отвлеченности и строгости гравюры. Флоренский отмечал «внутреннее сродство» гравюры с «внутренней сутью протестантизма», «параллелизм между рассудком, преобладающим в протестантизме, и линейностью изобразительных средств гравюры», подобно существующему, с его точки зрения, созвучию «между культивируемым в католицизме „воображением“, по терминологии аскетической, и жирным мазком-пятном в масляной живописи». По наблюдению Флоренского, протестантизму было свойственно желание «схематизировать свой предмет, реконструируя его отдельными актами разделения, не имеющими в себе ничего не только красочного, но также и двухмерного». И гравюра отвечала на этот запрос, предполагая «сотворение образа заново, из совсем иных начал, чем он есть в чувственном восприятии, – так, чтобы образ стал насквозь рационально понятен, в каждой своей частности»64.