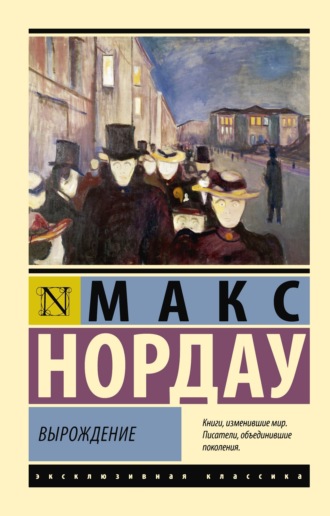
Полная версия
Вырождение
Признавая за его трудом большое значение, мы относились к нему с должным уважением, строго придерживаясь подлинника, т. е. избегая по возможности всяких сокращений. Немногие нами сделанные сокращения мы считаем своим долгом здесь оговорить. Во-первых, мы сочли возможным выкинуть характеристику некоторых весьма второстепенных немецких последователей Золя, о которых сам автор говорит, что разбор их произведений выходит из рамок его труда и представляет интерес исключительно только для немецких читателей. Эти немецкие последователи Золя совершенно неизвестны у нас и так бездарны, что на них в русском переводе книги Нордау, понятно, нечего останавливаться, но тем не менее мы включили в перевод общие выводы, к которым приходит автор и по отношению к этим писателям. Вторая купюра касается отрицательной оценки деятельности известного литературного критика Брандеса. Оценка эта, занимающая две-три страницы оригинала, вовсе не мотивирована автором, также выходит из рамок его труда и, следовательно, может с пользой быть опущена. Наконец, мы позволили себе еще в главах, касающихся Ибсена и Ницше, выбрать из множества примеров, приведенных автором, самые характерные, руководствуясь указанием самого автора, что этот длинный ряд однородных примеров может утомить читателя и что они приводятся только для полной доказательности.
Вот все изменения против оригинала, которые допущены в русском переводе. Признаюсь откровенно, я нередко чувствовал искушение смягчить некоторые чересчур, по моему мнению, резкие выражения, к которым автор прибегает по живости своего темперамента. Но я почти нигде не поддался этому искушению, потому что уверен, что читатель сумеет оценить полное беспристрастие автора. Всякие личные соображения ему чужды. Как человек, преданный науке, он руководствуется в своих суждениях исключительно избранным им методом, воодушевляющей его идеей, и потому резкие выражения не могут набросить тень на его беспристрастность. Если он кого-либо осуждает, то исключительно с точки зрения, к которой его приводит избранный им метод исследования, а такая критика, единственно научная и достойная, произведет особенно благоприятное впечатление у нас, где объективная в этом смысле критика почти совершенно отсутствует. Резок, впрочем, бывает Нордау только тогда, когда он видит, какой громадный вред причиняют господствующие теперь в литературе и искусстве психопатические течения вечным идеалам человечества: истине, науке, свободе и настойчивому, выдержанному, осмысленному, трезвому труду, направленному к приближению человека к этим идеалам. Таким духом, возвышенным и плодотворным, проникнута новая книга Макса Нордау, и мы испытываем чувство живейшего удовлетворения, что нам пришлось способствовать ее появлению на русском языке.
Р. Сементковский
Вместо предисловия
Профессору Чезаре Ломброзо
Многоуважаемый и дорогой учитель! Я посвящаю эту книгу вам, чтобы с чувством удовлетворения публично засвидетельствовать факт, что без ваших работ она не могла бы быть написана.
Понятие о вырождении, первоначально научно обоснованное Морелем и гениально разработанное вами, дало, благодаря вашим трудам, богатые плоды в самых разнообразных отраслях знания. Вы пролили поток света на многочисленные вопросы психиатрии, уголовного права, политики и социологии; свет этот не видят только те, кто из упрямства умышленно закрывает глаза или настолько подслеповат, что даже самое яркое освещение ему помочь не может.
Но есть обширная и важная область, в которую ни вы, ни ваши ученики еще не внесли светоча вашего метода: это искусство и литература.
Процесс вырождения распространяется не только на преступников, проституток, анархистов и умалишенных, но и на писателей и художников, и последние представляют в духовном, а по большей части и в физическом отношении характеристические черты, свойственные членам той же антропологической семьи, хотя и удовлетворяют болезненные свои наклонности не ножом или динамитом, а пером или кистью.
Некоторые из представителей вырождения в литературе, музыке и живописи вызывают чрезвычайный шум за последние годы и прославляются многочисленными своими поклонниками как творцы нового искусства, как провозвестники полного обновления в наступающем столетии.
К этому явлению нельзя относиться безучастно. Книги и произведения искусства сильно влияют на массы. Из них данная эпоха черпает свои этические и эстетические идеалы. Когда они безрассудны и противообщественны, они путают и извращают понятия целого поколения. Поэтому необходимо предостеречь его и разъяснить ему истинное значение произведений, вызывающих слепое поклонение, особенно же надо предостерегать молодежь, отличающуюся впечатлительностью и легко увлекающуюся всем необыкновенным и на вид новым. Ходячая критика этой задачи не исполняет. К тому же исключительно литературно-эстетическая подготовка хуже всего содействует уяснению себе патологического характера этого рода произведений. Художественная критика излагает с претензией на остроумие более или менее мило или высокопарно только субъективные впечатления, навеянные этими произведениями; но она не в состоянии уяснить себе вопросов, не являются ли они плодом больного ума и какого рода душевная болезнь в них проявляется.
Поэтому я сделал попытку подвергнуть модные течения в литературе и искусстве анализу, руководствуясь вашим методом, и выяснить, что они вызываются вырождением их виновников и что лица, увлекающиеся ими, в сущности, увлекаются только проявлением более или менее ясно выраженной психопатии, слабоумия или даже сумасшествия.
Таким образом, эта книга является опытом чисто научной критики, оценивающей произведения не на основании вызываемых ими впечатлений, весьма различных, капризных и случайных, смотря по темпераменту и настроению читателя, а на основании психофизиологических элементов, из которых сложились эти произведения. Вместе с тем я этой книгой решаюсь восполнить пробел в созданной вами величественной системе.
Я вполне отдаю себе отчет в последствиях, которые будет иметь мой опыт лично для меня. Ныне можно нападать на церковь, потому что костров уже не существует; можно нападать и на политические власти, ибо в худшем случае вас заключат в тюрьму, и вы будете вознаграждены ореолом мученичества. Но незавидна участь тех, кто осмеливается называть модные эстетические течения проявлением умственного разложения. Обиженный писатель или художник никогда вам не простит, что вы признали его душевнобольным или шарлатаном. Субъективно настроенная критика не помнит себя от злости, когда ей доказывают, что она судит поверхностно, некомпетентно или малодушно плывет по течению. Даже публика досадует на вас, когда вы ей уясните, что ее мнимые пророки – глупцы, шарлатаны или балаганные петрушки. Но ведь графоманы и их телохранители-критики господствуют почти над всею печатью и пользуются ею, как орудием пытки, чтобы самым варварским образом до конца жизни истязать того, кто расстраивает их игру.
Однако опасность не должна удерживать человека от исполнения своего долга. Тот, кто открыл научную истину, должен сообщить ее человечеству и не сохранять ее втайне. Впрочем, это и немыслимо, как не может женщина произвольно задержать плод, созревший в ее утробе.
Я, конечно, не могу соперничать с вами, творцом могучего умственного течения нашего века, но я могу брать пример с вас и идти спокойно моей дорогой, не обращая внимания на неразумие, злобу и умышленные искажения.
Не откажите, многоуважаемый и дорогой учитель, и впредь в вашем расположении глубоко вам преданному
Максу Нордау
I. Конец века (Fin de siècle)
«Гибель народов»
Общий характер многочисленных явлений нашего времени, равно как и выражающееся в них основное настроение, принято теперь называть настроением «конца века» (fin de siècle).
По опыту уже известно, что обозначение какого-либо понятия в большинстве случаев заимствуется из языка того народа, у которого оно впервые возникло. Философия всегда пользовалась этим законом в применении к истории обычаев и на основании происхождения корней слов доискивалась происхождения самых ранних изобретений и хода развития различных человеческих племен. Fin de siècle – французское выражение; французы поняли первые то душевное настроение, которое обозначается этим названием. Словечко облетело обе части света и гостеприимно встречено всеми цивилизованными народами. Это служит доказательством, что в нем чувствовалась потребность. Состояние умов, характеризуемое словами fin de siècle, наблюдается вновь повсеместно, но в большинстве случаев это – простое подражание привлекательной чужеземной моде, а не самостоятельное явление; явственнее же всего оно выступает на родине, и изучать его во всех разнообразных проявлениях можно лучше всего в Париже.
Нам нечего доказывать, что само по себе это слово глупо. Только в голове ребенка или какого-нибудь дикаря могло зародиться грубое представление, что столетие составляет подобие живого существа, что оно рождается, как животное или человек, проходит все фазисы земного существования – цветущее детство, веселую молодость, мощную зрелость, постепенно приближается к старости и истощению; наконец, с наступлением последнего десятилетия страдает всеми недугами жалкого старчества и затем умирает. При этом нелепом антропо- или зооморфизме не принимается даже во внимание, что произвольное деление времени различно у культурных народов, что периоду старческого истощения христианского девятнадцатого столетия соответствует младенчество четырнадцатого столетия магометанского мира и полный расцвет пятьдесят седьмого столетия евреев. На земном шаре ежедневно рождается целое поколение в 130 000 человек, и для них жизнь начинается именно в этот день; родится ли новый гражданин вселенной в конце 1900 г., в период смертельной агонии девятнадцатого века, или в 1901 г., в день нарождения двадцатого столетия, он от этого не будет ни сильнее, ни слабее. Но у французов уж такой лингвистический обычай: они сожалеют других, когда сами заслуживают сожаления. Вы то и дело услышите во Франции такие речи: «Мой бедный друг, знаете ли, что случилось? Я совершенно разорился…» Этот странный способ выражения объясняется тем, что то, что его касается, интересует всех и что постигающее его несчастье представляется всему миру по меньшей мере столь же важным событием, как ему самому. Этим наивно-эгоистическим способом выражения объясняется и то, что французы собственное свое старчество переносят на все столетие и говорят о fin de siècle, когда вернее было бы говорить о fin de race[1].
Но как ни глупо выражение fin de siècle, умственное настроение, которое им характеризуется, действительно существует в руководящих общественных группах. Это настроение чрезвычайно смутное; в нем есть лихорадочная неутомимость и тупое уныние, безотчетный страх и юмор приговоренного к смерти. Преобладающая его черта – чувство гибели, вымирания. Fin de siècle – исповедь и в то же время жалоба. В скандинавской мифологии сохранилось страшное сказание о «гибели богов». В наше время даже развитые умы испытывают то же неопределенное опасение надвигающихся сумерек, постепенного исчезновения небесных светил и «гибели народов» со всей их цивилизацией.
Не в первый раз уже в истории наблюдается распространение подобного смутного страха. С приближением 1000 года это чувство овладело всеми христианскими народами. Но оно существенно отличалось от ощущений fin de siècle. В исходе первого тысячелетия христианской эры страх порождался чувством полноты жизни, привязанностью к ней. Кровь кипела, люди чувствовали себя способными наслаждаться, и мысль о возможности погибнуть вместе со всей вселенной казалась ужасной, невыносимой: ведь было столько вина, столько красивых женщин, столько сил наслаждаться!
В настроении fin de siècle ничего подобного нет. Оно не имеет ничего общего с меланхолией Фауста, когда он на склоне лет вспоминает всю свою жизнь, гордится достигнутым, но в то же время, видя, что многое еще только начато, еще не совершено, испытывает страстное стремление довершить неоконченное и даже ночью не находит себе покоя и вскакивает с возгласом: «Спешу исполнить, что задумал». Совершенно иным представляется настроение fin de siècle. Это бессильное отчаяние человека хилого, который чувствует, что он постепенно приближается к смерти среди цветущей, животворящей природы, зависть богатого старого развратника, который видит влюбленную парочку, удаляющуюся в уединенный уголок молчаливого леса, стыд истощенного слабосильного, который, как во время чумы во Флоренции, укрывается в волшебном саду, чтобы пережить еще похождение в духе Декамерона, и тщетно мучит себя, чтобы в виду предстоящей опасности еще раз насладиться опьянением чувств. Тот, кто читал «Дворянское гнездо» Тургенева, помнит, конечно, конец этого прекрасного произведения. Герой его Лаврецкий посещает дом, в котором разыгрался роман его жизни. Все осталось неизменным: в саду по-прежнему благоухают цветы, на лужайке весело резвится молодежь, только Лаврецкий состарился, и смотрит он в глубокой печали на картину природы, которая радостно возрождается и которой мало горя до того, что любимая им девушка исчезла и что он сам превратился в утомленного, разбитого жизнью человека. Сознание Лаврецкого, что среди этой вечно юной и цветущей природы ему одному нет места, предсмертный крик Алвинга «солнца, солнца» в «Привидениях» Ибсена, – вот истинное настроение «конца века».
В этом модном словечке есть неизбежная неопределенность, как нельзя лучше характеризующая все полусознательное и неясное в нынешнем настроении умов. Подобно тому как слова «свобода», «прогресс», по-видимому, выражают определенное понятие, но в сущности весьма эластичны, так и выражение fin de siècle само по себе ничего не значит, но приобретает смысл, соответствующий образу мыслей лиц, его употребляющих.
Чтоб уяснить себе, что, собственно, понимают под этим выражением, лучше всего взять ряд примеров из французских книг и газет за последние годы.
Монарх отрекается от престола и, покинув свою страну, избирает своим местопребыванием Париж. Некоторые из своих политических прав он, однако, сохраняет за собою. Однажды он проигрывает большой куш денег, и положение его становится весьма затруднительным. Тогда он заключает с правительством своей страны договор, в силу которого он за миллион франков раз навсегда отказывается от своего титула, официального положения и своих прав. Это король «конца века».
Епископ подвергается судебному преследованию за оскорбление министра народного просвещения. После прений на суде его каноники, по его распоряжению, раздают газетным репортерам оттиски его защитительной речи. Приговоренный к денежному штрафу, епископ устраивает публичное собрание, на котором он собирает в свою пользу сумму, в десять раз превышающую наложенный на него штраф. Затем он издает целый том полученных им сочувственных писем, совершает путешествие по стране, появляется во всех соборах, куда стекаются толпы народа, чтоб поглазеть на знаменитость дня, и при случае получает еще кошельковый сбор. Это епископ «конца века».
Труп убийцы Пранцини подвергается после казни анатомическому вскрытию. Начальник тайной полиции срезает большой кусок кожи и заказывает из нее для себя и своих друзей портсигары и бумажники для визитных карточек. Это должностное лицо «конца века».
Американец венчается со своей невестой на газовом заводе и вслед за тем немедленно отправляется на воздушном шаре совершить свадебное путешествие в облаках. Это свадьба во вкусе «конца века».
Атташе при китайском посольстве издает весьма остроумные сочинения на французском языке, подписанные его именем, в то же время ведет с банкирскими домами переговоры о государственном займе и получает большие суммы в счет подписки. Впоследствии, однако, оказывается, что книги, изданные им, принадлежат перу его секретаря, француза, и что банки он надул. Это дипломат «конца века».
Гимназист проходит со своим товарищем мимо тюрьмы, в которой его отец, богатый банкир, неоднократно сидел за злостное банкротство, подлоги и другие доходные преступления того же рода. Он указывает своему другу здание и, улыбаясь, говорит: «Посмотри, вот гимназия моего папаши». Это сын «конца века».
Две приятельницы по пансиону, барышни из хороших семейств, ведут между собою беседу. Одна из них вздыхает.
– Что с тобой? – спрашивает другая.
– Я люблю Рауля, и он меня любит.
– Да ведь это прелестно. Он такой красавец, молод, изящен, а ты этим огорчаешься?
– Все это так, но он беден, и у меня ничего нет, а мои родители хотят выдать меня замуж за барона, плешивого, отвратительного толстяка, но ужасно богатого.
– Так что же? Выходи себе спокойно за барона и познакомь с ним Рауля. Ах ты, глупенькая!
Это тип барышни «конца века».
Из этих примеров видно, какой смысл придают выражению fin de siècle в стране, где оно народилось. Немецкие подражатели парижских мод, придающие этому выражению почти исключительно значение непристойное и скабрезное, в своем грубом невежестве сильно им злоупотребляют. Так, они и несколькими десятилетиями раньше обозначали словом demi-monde[2] исключительно мир кокоток, в то время как Дюма, введший это слово в употребление, хотел им охарактеризовать людей, имеющих в своей жизни темное пятно и поэтому исключенных из кружка, к которому они принадлежат по рождению, воспитанию или карьере, но строго избегающих выдать, по крайней мере перед непосвященными, что они им отвергнуты.
На первый взгляд между королем, продающим свои владетельные права за значительную сумму, и новобрачной парочкой, совершающей свадебное путешествие на воздушном шаре, очень мало общего, как между епископом-шарлатаном и благовоспитанной барышней, дающей своей приятельнице совет, как приятнее устроиться в супружеской жизни. А между тем во всех этих случаях замечается общая черта, именно презрение к установившимся понятиям о приличии и нравственности.
Итак, основной смысл слов fin de siècle заключается в отречении на практике от традиционной порядочности, которая в теории еще вполне признается. В распутном человеке оно выражается разнузданностью инстинктов; в черством эгоисте – полным пренебрежением к ближнему и к его интересам, разрушением всех преград, которые сдерживают грубое корыстолюбие и жажду наслаждений; в скептике – беззастенчивым проявлением низменных стремлений и побудительных мотивов, которые до сих пор если не подавлялись, то лицемерно скрывались; в верующем – ослаблением веры, полным материализмом; в эстетике – отрицанием идеала в искусстве и бессилием производить впечатление старыми формами; во всех же людях вообще – несочувствием к прежним порядкам, удовлетворявшим в течение целых тысячелетий требованиям логики, сдерживавшим преступные порывы и содействовавшим появлению прекрасных художественных произведений.
Целый период истории, видимо, приходит к концу и начинается новый. Все традиции подорваны, и между вчерашним и завтрашним днем не видно связующего звена. Существующие порядки поколеблены и рушатся; все смотрят на это безучастно, потому что они надоели, и никто не верит, чтоб их стоило поддерживать. Господствовавшие до сих пор воззрения исчезли или изгнаны, как свергнутые с престола короли, и их наследства добиваются законные и незаконные наследники. Тем временем наступило полное междуцарствие со всеми его ужасами: смущением властей, беспомощностью лишившихся своих вождей масс, произволом сильных, появлением лжепророков, нарождением временных, но тем более деспотических властелинов. Все ждут не дождутся новой эры, не имея ни малейшего понятия, откуда она придет и какова будет. При хаосе, господствующем в умах, от искусства ожидают указаний относительно порядка, который заменит собою общую сумятицу. Поэт, музыкант должен возвестить, угадать или по крайней мере предчувствовать, в какой форме выразится дальнейший прогресс. Что будет завтра признаваться нравственным или прекрасным, что мы будем знать, во что верить, чем воодушевляться, чем наслаждаться? – таков вопрос, раздающийся из стоустой толпы, и там, где какой-нибудь шарлатан возвещает, что у него имеется наготове ответ, дурак или авантюрист начинает пророчить в стихах или прозе, звуками или красками, или оригинальничает, отвергая своих предшественников или соперников, толпа так и льнет к нему, прислушивается к каждому его слову, как к оракулу, и, чем темнее смысл его речей, чем бессодержательнее они, тем лихорадочнее внимает им бедная толпа глупцов, жаждущих откровения, тем знаменательнее представляются они ей и с тем большею страстностью подвергаются бесконечным толкованиям.
Таково зрелище, освещаемое красноватым отблеском вечернего заката. Сгустившиеся облака горят красиво, но зловеще в таком зареве, какое еще долгие годы наблюдалось на небе после извержения Кракатау. На землю спускаются черные тени, которые скрывают в таинственном мраке проявления жизни, лишают все предметы их определенности, дают простор разным предчувствиям. Очертания теряются, все сливается в тумане. Миновал день, наступила ночь. Старики встречают ее со страхом, опасаясь, что не переживут ее. Только немногие молодые и сильные люди живут всеми нервами и фибрами своего существа и радуются предстоящему восходу солнца. Сны, наполняющие эти часы мрака до зари нового дня, у первых – печальные воспоминания, у вторых – высокомерные надежды, и формы, в которых они конкретно выражаются, и составляют художественное творчество нашего времени.
Здесь мы, однако, должны оговориться во избежание всяких недоразумений. Громадное большинство людей и низших классов, конечно, не подходит под наше определение fin de siècle. Тем не менее настроение времени проникает в самые глубокие слои и вызывает даже в самых темных и неразвитых людях странное чувство беспокойства, своего рода морскую болезнь, которая, однако, не доходит у них до своеобразных прихотей, свойственных беременным женщинам, и не выражается в новых эстетических потребностях. Буржуа или пролетарий, если он не чувствует на себе презрительного взгляда человека fin de siècle и имеет возможность непринужденно предаваться своим собственным склонностям, все еще наслаждается старыми формами искусства и поэзии. Он предпочитает романы Онэ всем символистам, и «Сельскую честь» Масканьи всем вагнеристам и самому Вагнеру; он от души забавляется водевилями с глупыми шутками и зевает, слушая пьесы Ибсена; он с удовольствием смотрит на грубые олеографии и равнодушно проходит мимо картин современных модных художников. Лишь самое ничтожное меньшинство находит искреннее удовольствие в новых направлениях и убежденно провозглашает, что в них и спасение, и надежда, и будущность. Но это меньшинство наполняет собою всю видимую поверхность общества, подобно тому как ничтожное количество масла широко распространяется на поверхности моря. Оно состоит из богатых и известных людей или из фанатиков; первые дают тон всем глупцам и пустомелям, вторые влияют на слабых и несамостоятельных людей и запугивают робких. Толпа делает вид, что ее вкусы совпадают со вкусами сторонящегося от нее меньшинства, которое с видом величайшего презрения проходит мимо всего, что до сих пор считалось прекрасным, и таким образом, на первый взгляд, может показаться, что все образованное человечество усвоило себе эстетические вкусы людей fin de siècle.
Симптомы болезни
Посетим модные места больших европейских городов, общественные гулянья курортов, вечерние собрания богатых людей и смешаемся с толпою. Что же мы увидим?
У одной из дам волосы гладко зачесаны назад, как у Рафаэлевой Маддалены Дони в Палаццо Уффици, у другой волосы высоко возвышаются над лбом, как у Юлии, дочери Тита, или у Плотины, супруги Траяна, бюсты которых мы видим в Лувре, у третьей они коротко подстрижены спереди, а на висках и на затылке свободно рассыпаются длинными завитыми прядями по моде пятнадцатого столетия, как у пажей и молодых рыцарей на картинах Джентиле Беллини, Боттичелли и Мантеньи. У многих волосы выкрашены и притом в такой цвет, чтоб он противоречил законам органического согласования и производил впечатление диссонанса, разрешающегося в высшей полифонии всего туалета. Вот эта черноглазая, смуглолицая женщина как бы потешается над природой, заключая свое лицо в рамку медно-красноватых или золотисто-желтых волос, между тем как та голубоглазая красавица с прелестным ослепительно-белым цветом лица и ярким румянцем поражает их контраст с черными, как смоль, локонами. На одной – громадная, тяжелая войлочная шляпа с отогнутым сзади полем, гарнированная крупными плюшевыми шариками и, очевидно, сделанная по образцу сомбреро испанских тореадоров, приезжавших в Париж во время Всемирной выставки 1889 г. и послуживших модисткам моделью; на другой – изумрудного или рубинового цвета бархатный берет, как у средневековых студентов. Костюмы не менее вычурны. Тут вы видите коротенькую накидку, доходящую до пояса, с разрезом на боку, задрапированную спереди наподобие портьеры и обшитую по краям шелковым аграмантом с подвесками, которые вечно болтаются и приводят нервного человека в гипнотическое состояние или внушают ему желание обратиться в бегство; там – греческий пеплон, название которого модистке так же хорошо известно, как любому знатоку классической древности; наряду с длинным, чопорным платьем во вкусе Екатерины Медичи и высоким щитовидным воротником Марии Стюарт – легкие белые платья, напоминающие одеяние ангелов на картинах Мемлинга; или карикатурное подражание мужскому костюму: плотно облегающие стан сюртуки, жилеты с широкими разрезами на груди, накрахмаленные манишки, маленькие стоячие воротнички и узенькие галстуки. Большинство же женских фигур, не желая выделяться из толпы и не претендуя на оригинальность, напоминает собою вымученный стиль рококо с его перепутанными кривыми линиями, с непонятными выпуклостями, наростами, украшениями и впадинами, с беспорядочно разбросанными складками, причем все очертания человеческой фигуры исчезают, и женщина становится похожа то на какого-то апокалипсического зверя, то на кресло, то на триптих или на какую-нибудь другую принадлежность роскошной гостиной.








