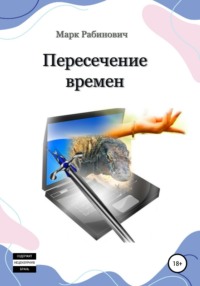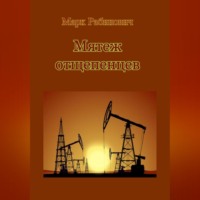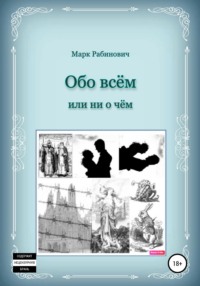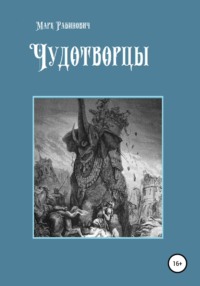Полная версия
Две половинки целого

Марк Рабинович
Две половинки целого
Великолепен яркий сочный плод
Но ты напополам его разрежь
И он лишь гнилость осени несет
Нелеп, невзрачен и несвеж
Вот так и ты, когда в едином целом
Твой дух и тело вместе сплетены
Един и ты, как нераздельно слово с делом
В покое мира ли, иль в мерзостях войны
А вот когда на части, на неравные куски
Ты разделен капризами судьбы
Невольно взвоешь от пронзительной тоски
По прошлому, что не сумел забыть
Ты выбрал путь, ты поборол себя
Но часть тебя осталась где-то там,
Как острым лезвием кусок от бытия
Тебе отрезан, рассечен напополам
Ущербен ты. О да! Но и не ты один
Так оглянись, похоже в целом свете
Нет больше целого, лишь сотни половин
В безумстве разлетелись по планете
Разрыв единств пугающе заметен
И видишь ты, доживший до седин
Как мир топорщится щербинками отметин
Несовпадением рваных половин
Энсио Эклунд
Нет, не могу я понять некоторых из моих клиентов. Судите сами: одно дело, когда в наши места приезжают крепкие мужики из-под Хельсинки со своими собаками и проводят денька три в бесплодных поисках зайца, глупого настолько чтобы позволить себя подстрелить. Или семья из сырого по зимней погоде Турку заявляется с тремя детьми и кошкой в поисках настоящего снега. Тут, разумеется, ничего необычного нет, на то она и Лапландия, чтобы финны почувствовали себя финнами, а не абстрактно-усредненными европейцами. Да и некоторых обитателей Берлина или Варшавы я тоже способен понять. Их старики еще помнят морозные зимы, вот и ностальгируют, разумеется недолго, в наших местах. Но что, позвольте вас спросить, тянет к нам саудитов, египтян, кувейтцев и прочий нефтеносный народ? Это остается для меня загадкой. Проведет такой персонаж у нас недельку в середине января, отморозит левое ухо и пару пальцев на правой ноге (или наоборот), поставит галочку в каком-нибудь своем ментальном дневнике подвигов и заречется подниматься зимой выше 50-й параллели. Или покормит тот же самый бедуин наших комаров в июне, вылечит волдыри и еще больше полюбит свою стерильную пустыню, где комара не видели со времен палеозоя. Правда и среди них попадаются экстремалы, раз за разом возвращающиеся в наше Заполярье, но таких единицы.
А вот кого я совсем уже не понимаю, так это израильтян. И действительно, повезло тебе жить в стране текущей молоком и медом, так живи и радуйся. Правда молоко с медом я терпеть не могу с детства, когда мама пичкала им меня по случаю осенних простуд, но наверное не стоит путать метафору с микстурой. Один мой знакомый, побывавший в Тель Авиве зимой, утверждал, что их зима более напоминает наше лето. И вот, имея у себя дома такую благодать, эти странные люди тратят немалые деньги чтобы хорошенько померзнуть. Приводите какие угодно доводы, убеждайте меня чем угодно, но есть в этом, право слово, известная толика мазохизма. Впрочем, израильтяне еще не самый плохой вариант, наверное потому что они не злоупотребляют алкоголем, в отличие от наших или шведов. Их юнцы, надо полагать, не отстают от других, но молодых израильтян я в наших местах не видел. Как объяснил тот же самый эксперт по Святой Земле, едва вступив в репродуктивный возраст, они служат долгие годы в армии. Потом, отслужив свое, они ищут местечко повеселей, чтобы расслабится и наша Лаппи для них как недостаточно эккзотична так и недостаточно далека. Странно… Не знаю как у них, а мне именно в армии удавалось расслабиться на всю катушку. Жаль только, что призывают у нас всего на один год. Впрочем, то что израильская молодежь оттягивается не у нас может беспокоить Министерство Туризма, областную администрацию… да кого угодно, только не меня. По мере приближения к пенсионному возрасту я вообще стараюсь не связываться с молодёжью. Мне вполне достаточно и собственного отпрыска, которому, впрочем, совсем неплохо в его слишком далеком Мальмё. В нашей семье всегда говорили по-шведски, а вот теперь я об этом жалею. Как бы то ни было, но я предпочитаю семейных клиентов.
Вот мне и досталась семейная пара израильтян с дочерью лет десяти и я вознес хвалу небесам за не самый беспокойный вариант. Было им, судя по виду, хорошо за сорок, если не все пятьдесят и это позволяло не слишком опасаться экстремальных выбросов адреналина в попытках, к примеру, заняться лазанием по ледяным откосам.
– Эйтан – представился он, когда я встретил их в аэропорту Рованиеми.
Такого имени мне раньше слышать не приходилось. Но ничего удивительного: экзотичная страна – экзотические имена.
– Очень приятно. Меня зовут Энсио и я буду вашим проводником и экскурсоводом.
Эйтан улыбнулся и молча кивнул, что показалось мне подозрительно лаконичным для еврея. Хотя, что я знаю о евреях? Зря, между прочим, именно мне следовало бы побольше о них знать. Но это к делу не относится.
Невольно я провел взглядом по его фигуре: я всегда так делаю, встречая зимних клиентов. Теплую одежду они редко привозят с собой, чаще заказывают по сети. Тут самое важное не польстить себе, потому что нет хуже дела чем выйти на мороз в обтягивающей куртке и жмущих штанах, из которых выпирает старательно втягиваемый живот. Осторожный осмотр показал, что Эйтан явно провел последнее десятилетие за компьютером и это сказалось на его фигуре. Впрочем, не тебе, Энсио, злорадствовать, сам-то явно не успеваешь сбросить хельсинский жирок за несколько зимних месяцев. Нет, если не хочешь разжиреть совсем уж безобразным образом, надо либо забыть про пиво, либо окончательно переехать в Лаппи… Однако, надо отдать должное Эйтану, одежду он заказал, как и полагается, с походом, что, в свою очередь, кое-что говорило о его характере и израильтянин сразу стал мне симпатичнее. Спутницу свою он представил Алоной (по мне так звучит вполне по-фински), а имя девочки я сразу же забыл. На английском израильтянин общался свободно, щеголяя тяжелым (надо полагать – ближневосточным) акцентом, а вот Алона толком языка не знала и время от времени вопросительно поглядывала на мужа. От гостиницы они отказались еще в процессе переписки и теперь я вез их в охотничий домик, расположенный на полпути между Рованиеми и Торнио. В тех местах иностранцы селятся редко, уж слишком сложно оттуда добираться до туристических мест. Это был первый звоночек, мне следовало насторожиться и я насторожился, но этой странностью все пока и ограничилось.
Поначалу процесс покатился по наезженной колее: израильтяне захотели покататься на собачьих упряжках и я вздохнул с облегчением. Но расслабился я рано: Эйтан вдруг ни с того ни с сего заговорил о Торнио. Вначале это был, как выяснилось позже, всего лишь пристрелочный разговор. Начался он когда мы грелись у костра. Время уже хорошо перевалило за полдень, а тени сосен вытянулись и начали намекать на сумерки. Конечно, возвращаться в темноте по обледенелой после вчерашней оттепели и сегодняшних морозов грунтовке, пропорошенной, в добавок ко всему, свежим снежком, было тем еще удовольствием, но я доверяю своему внедорожнику и поэтому решил не торопить израильтян, тем более что мне и самому не хотелось спешить. И действительно, какой финн не любит костер в зимнем лесу? Разве что такой горожанин как я, но это им было знать ни к чему. Впрочем, тающие в морозном воздухе искры и на меня действуют гипнотически, пробуждая генетическую память саамских предков. Рядом тяжело дышали уставшие собаки и через шарфы с тихим свистом вдыхали морозный воздух каюры. Израильтяне молчали и я был им за это благодарен.
– Далеко ли до Торнио? – неожиданно спросил Эйтан.
Странный вопрос. Что ему Торнио? Наверное, он относится к тем глубоко уважаемым мной персонажам, которым непременно надо знать свое местоположение на карте и ориентироваться относительно пары-тройки заметных мест, в которые они никогда не попадут, да и не собираются попадать. Но надо было отвечать, а не делать удивленные глаза, и я ответил:
– От вашего коттеджа около часа по такой погоде. Отсюда вдвое больше.
– Может быть мы сможем поехать туда завтра?
А вот это было неожиданно и я механически кивнул, не зная, что и сказать. Но любопытство неистребимо и граничит с грехом, а я далеко не ангел. Поэтому забросив их в коттедж и собираясь прощаться, я не выдержал и спросил:
– Если не секрет, что вы собираетесь делать в Торнио?
Дело происходит в холодных сенях коттеджа, куда он вышел меня проводить и где, кроме нас двоих, никого нет.
– Ну как же? – тускло мямлит он – Старинный город, деревянное зодчество.
Врет, понимаю я, тем более что неся эту чушь он все время отводит взгляд. Какое там “зодчество”? Две деревянные церкви, представляющие какой-либо интерес лишь для очень упертого краеведа, городской парк, мертвый по зимнему времени, да уныло-конструктивистское здание муниципалитета. Вот вам и весь Торнио. Впрочем, есть еще несколько военных мемориалов и памятник лососю в парке. Постой, Энсио, не говорит ли в тебе снобизм столичного жителя? Да, нет, бред какой-то. Прилететь из далекой страны, чтобы увидеть наше захолустье. Надо бы ему это объяснить. И я говорю:
– Придется довольно долго ехать, мы потеряем целый день. Стоит ли?
– Eteenpäin, sanoi mummo lumessa1!
Мне показалось, что я ослышался. Да и кому бы не показалось: израильтянин вдруг заговорил по-фински, да еще и поговорками.
– Puhutko suomea2?
Не самый мудрый вопрос, признаюсь, но что же еще следовало спросить?.
– Нет – отвечает он – К сожалению – не говорю. Знаю лишь несколько слов по-фински, да еще вот эту поговорку. Ее часто повторял мой дед. И, да, он был финном.
– Финном? – глубокомысленно повторяю я, не зная что сказать.
Интересно, мелькает мимолетная мысль, что финн делал в Израиле? Но Эйтан не дает мне погрязнуть в заблуждениях.
– Дед был евреем из Турку. Кстати, он воевал здесь, в Лапландии. Если не врал, конечно. А еще он говорил: кiipeät perse edellä puuhun3. Это значило, что я делаю какую-нибудь глупость.
Ну, разумеется. Моя бабка тоже так говорила, да и отец изрекал время от времени. А вот мама считала эту фразу слишком грубой, но к отцу проявляла снисходительность. Теперь некому на него смотреть укоризненно, но он и сам так больше не говорит, наверное в память о маме. Бог с ними, с поговорками, значительно больше меня интересует другое и это если не считать какого-то смутного предчувствия. Стоп, господин Эклунд, остынь и не давай воли своим фантазиям. Засунув все предчувствия туда, где им самое место, я спрашиваю.
– Почему ты считаешь, что он мог врать про войну?
– Я имею ввиду войну здесь у вас, в Лапландии. Про две войны с русскими я, конечно же, слышал. Дед успел повоевать в обеих, был ранен и даже получил какую-то награду. Правда он её не сохранил. Но война Финляндии с Германией… Ведь они были союзниками в той войне. Странно.
Мы привыкли говорить не “союзники”, а "товарищи по оружию", заменяя этим эвфемизмом вполне понятное нежелание считаться друзьями Гитлера. Но поправлять Эйтана я не буду. Однако историю я знаю неплохо – профессия обязывает – и поэтому ничего странного в Лапландской войне не нахожу. В те годы почти все союзники (или “товарищи по оружию”) Третьего Рейха рано или поздно переходили на другую сторону. Последней, если не ошибаюсь, была Венгрия. Но, если про главные сражения 2-й мировой не слышали лишь самые тупые, то про войну в Лапландии за пределами моей страны знают немногие. И неудивительно, ведь учебники истории Германии, Франции или Австралии не упоминают ни об отчаянном десанте в Торнио, ни о дотла сгоревшем Рованиеми, ни о сражениях в тундре. Все это следует ему рассказать, но я молчу и мое молчание звучит красноречивей любых исторических сентенций.
– Еще он утверждал, что свой последний бой принял под Торнио…
А вот это в корне меняет дело и на следующий день мы едем на юго-запад. Едем только мы двое: Алона и девочка (оказывается ее зовут Наоми) остались чтобы походить на лыжах возле коттеджа. Не знаю, что у них там получится без базовых навыков. Впрочем, Алона вроде бы родом из России, так что шансы у нее есть, а вот Наоми придется полагаться на генетическую память.
Торнио встречает нас сносной, насколько это возможно на побережье, погодой: легким морозцем после вчерашних холодов и позавчерашней оттепели. Но мы пока что сидим в моем Pathfinder-е и нам тепло.
– Где тут порт? – спрашивает он.
Порта в самом Торнио нет, порт находится южнее в Рёуття. Именно там высаживались бойцы 11-го пехотного полка. Но нужны ли эти детали Эйтану?
– Дед рассказывал, что их часть перевезли из порта в Торнио на поезде, потому что только у них были полевые орудия. А остальные добирались из порта на велосипедах. Подумать только – на велосипедах! Неужели у вас были самокатные части?
Эти подробности уже мало кто помнит, но израильтянину повезло наткнуться на учителя истории. Правда учитель я лишь на половинную ставку и предоставляю учеников самим себе не только на летних каникулах, но и на добрую половину зимы. Хорошо хоть что школьное начальство снисходительно относится к моим слабостям, тем более что мне без труда удается отбиться экологическими отмазками.
– Да – говорю я – По бедности и из-за отсутствия хороших дорог, особенно на севере, мы не могли позволить себе мотопехоту. А велосипеды, это в самый раз. Тем более, что финн-хуторянин ездит на велосипеде с раннего детства. Да и не выжил бы он без велосипеда. Не пойдешь же пешком за полсотни километров в лавочку за солью, а машину, если даже она у тебя есть, жалко бить по буеракам из-за мелочей.
– А зимой? – спрашивает он.
– На санях – пожимаю плечами – Или, на худой конец, на лыжах.
– Так мы сможем попасть в порт? – интересуется он.
Усмехаюсь про себя: название “Рёуття” ему, конечно же, не выговорить.
– Можно – соглашаюсь я – Но это займет время. Часа два как минимум.
Тут он меня удивляет. Конечно, в наше время мало кто носит наручные часы и не было ничего удивительного в том, что он полез во внутренний карман парки. Но извлек он оттуда вовсе не смартфон, как можно было ожидать, а луковицу старинных карманных часов. И было это нечто значительно более громоздким, чем обычная российская подделка, какими пруд пруди в сувенирных лавочках около хельсинского вокзала. Антикварный механизм намекает, насколько я могу судить, на позапрошлый век: об этом говорит и медная отделка и латунный корпус. И как ему не лень таскать такую тяжесть, думаю я. По грани часов идет изящная резьба, а на задней, повернутой ко мне, крышке выгравирован затейливый вензель.
– Время есть – говорит он, посмотрев на невидимый мне циферблат.
Он убирает часы и мы едем в Рёуття. Заснеженный лес по обеим сторонам шоссе красив, но куда ему до окрестностей Рованиеми. Здесь чувствуется близость порта и промышленной зоны, поэтому снежная белизна уже не та и порой отдает бурым. А вот и порт: дебаркадеры, склады и неизменные портальные краны. Наверное, в октябре 44-го все было поскромнее, но и тогда ветка железной дороги доходила до порта. Что он надеется здесь увидеть? На территорию порта нас не пускают, но Эйтан и не настаивает и мы спешим вернуться в Торнио. Что же он там увидел? Или хотел увидеть и не увидел?
– Где тут был “Маленький Берлин”? – спрашивает он, когда мой внедорожник проезжает красное здание железнодорожного вокзала.
Ну и дела! Неужели он знает про великую пьянку в самом начале битвы под Торнио, про которую не слышали даже некоторые учителя истории? Но я не некоторый, я-то знаю, причем не из книг и не из сети, а от непосредственного свидетеля. И мы едем туда, где некогда были склады Вермахта. В тот последний год последней войны, здесь мало что сохранилось: немногие склады, выдержавшие обстрел, сгорели дотла. Сейчас здесь все иначе, но подходы к товарной станции по-прежнему заполняют склады, уже не деревянные, а сборные, из бетона, стекла и пластика. Интересно, что он сейчас ощущает? Эйтан молчит и, похоже, даже не смотрит по сторонам.
– Куда теперь? – спрашиваю я.
– В центр города – неуверенно говорит он – Там должна быть старая церковь.
В центр, так в центр. Церковь мне знакома, это лютеранская кирха. Но сама церковь его не интересует, он лишь встает напротив нее и начинает вертеть головой. Следовало бы попридержать воображение, потому что мне кажется, что у Эйтана раздуваются ноздри в попытке обнаружить нечто верхним чутьем. В поле его зрения попадает изящный деревянный особняк кирпичного цвета в виде буквы “П”.
– В этом доме тогда организовали импровизированный госпиталь…
Это не вопрос, а утверждение. Я машинально пожимаю плечами (откуда мне знать?) и вздрагиваю. Неужели это то самое место, про которое говорила мама и при упоминании которого бабушка поджимала губы? Но ни та, ни другая никогда не вдавались в подробности, так что… не знаю. Сейчас в здании школа, а что было тогда? Так кто же ты такой, Эйтан Бен-Яаков, во имя всех святых?
В школу нас тоже не пустили, но Эйтан не слишком и рвался. Следующей остановкой он назначил шведскую границу. Никакой границы там разумеется не было, да ее и быть не могло в Объединенной Европе. Но тогда, в далеком 44-м году здесь наверное был шлагбаум и стоял пограничник, зевающий в кулак. Граница и тогда не слишком охранялась и я даже подозреваю, что у шведских пограничников могло не быть оружия. На пограничном мосту он постоял минуту-две, задумчиво разглядывая растопыренные указатели с надписями Suomi/Sverige.
– Нет ли тут места, где мы могли бы выпить? – внезапно заявляет он – Я угощаю, разумеется.
Признаться честно, это меня обрадовало. Дело в том, что таинственное поведение израильтянина уже начало действовать мне на нервы. Я не понимал, что им движет, а спросить не решался и именно эта таинственность, в совокупности с моей нерешительностью, и были причиной моей раздражительности. А вот в желании выпить не было ничего таинственного, ведь многие к нам для этого и приезжают. В Торнио я подходящего места не знал и мы поехали в недалекий Кеми. Там, в предместьях городка, должен был быть неплохой маленький бар в здании мотеля, стилизованный под 70-e. К счастью, заведение было открыто и мы пристроились в уголке на громоздких красных креслах за маленьким круглым столиком. Мне еще предстояло вести машину по непростой дороге и пришлось ограничиться пивом. Зато Эйтан заказал себе виски с кока-колой, не очень популярный напиток в нашей стране, но бармен и глазом не моргнул. Похоже было на то, что мой клиент не собирается ограничиться одним коктейлем и я решил форсировать назревающий разговор.
– Что ты хотел получить от нашего сумбурного налета на Торнио?
– Это трудно сформулировать…
Было ясно, что один виски для него не доза и ровный голос так и остался безэмоциональным.
– …Наверное, мне хотелось прочувствовать то, что ощущал мой дед. Перенестись в октябрь 44-го.
– И как, получилось?
– Не слишком…
Конечно, начало октября в Лапландии не похоже на середину февраля. Город тоже изменился и, кроме здания вокзала, церкви и школы, в нем не осталось ничего от прежнего Торнио.
– …И все же мы не зря съездили.
Вот и отлично, думаю я. Сейчас я допью свое пиво, а он – свой второй виски, и мы тихо и мирно поедем в их коттедж. А потом можно будет забыть про эту странную поездку, вызывающую ненужные вопросы и слишком уж будоражащую твое неуемное воображение. Теперь главное – избегать скользких тем. Поэтому мне совершенно непонятно, зачем я неожиданно спрашиваю:
– Расскажи мне о своем дедушке.
Эйтан не удивляется, похоже он ждал этого вопроса и начинает:
– Тот финский дед был моим дедом со стороны матери. Он приехал в Палестину то ли в 45-м, то ли в 46-м, еще когда там были англичане. Потом он воевал почти что во всех наших войнах, а их было немало, и в каждой умудрялся схватить либо пулю либо осколок. Когда я был мальчишкой, мы с ним иногда ходили на море, и я видел шрамы на его теле. Бабушка утверждала, что он давно должен был умереть от ран, но его всегда что-то спасало, как будто его защищал ангел-хранитель. Она сама, наверное, и была тем ангелом. Во время Шестидневной войны у нас было не так много потерь, но и тогда моего деда нашел осколок гранаты. Было это при штурме Арсенальной горки и он как раз собирался истечь кровью, но бабушка вынесла его на себе из под огня. Потом они поженились и через год родилась мама. Дедушке тогда было уже порядочно лет.
– Как ее зовут?
– Кого?
– Твою маму.
Зачем ты это спрашиваешь, Энсио? Ты же знаешь ответ. Чушь собачья, откуда я могу знать? И все же ты знаешь. Эйтан отвечает и, наверное, я все же вздрагиваю, но он не замечает или делает вид, что не заметил.
– А еще дед страдал от извечной проблемы финских евреев времен 2-й Мировой. Он ведь воевал на стороне Гитлера и это не давало ему покоя. Конечно же, он не был ни в чем виноват и знал это. И все же ощущал чувство вины. Иные в такой ситуации предпочли бы загнать неприятные воспоминания поглубже и забыть. Дед был не таков, он снова и снова переживал те три года в одних окопах с нацистами. Что это было: гипертрофированная честность или мудрость? Ведь загнанные вглубь неприятные воспоминания сжигают, а выдавленные наружу – приносят облегчение.
– У нас вся страна воевала на стороне Гитлера – я пожимаю плечами – И никто не комплексует… Почти никто не комплексует.
– Вот именно – он поднимает на меня глаза – И это при том, что финнов никто не загонял в лагеря и не травил газом, а на происходящее в Германии и в оккупированных странах можно было и закрыть глаза.
Он не политкорректен и не выбирает выражения, но это не следствие выпитого, я же вижу. Между нами что-то наметилось (симпатия, доверие?) и сейчас он говорит то, что не позволил бы себе в разговоре со случайным собеседником. Похоже что ему надо сказать еще что-то.
– Мы не так часто виделись с дедом. Он жил на юге, в кибуце посреди пустыни, подобно многим из тех, кто создавал нашу страну. А я родился и вырос в Хайфе, это совсем другой мир. Зато когда он приезжал к нам на праздники, то брал меня на море и мы долго шли вдоль берега. Порой мы молчали, а порой разговаривали, но он очень мало рассказывал о себе…
Он прерывает свой рассказ на середине, но мне кажется, что он уже все сказал. Нет, не все, у него тоже есть вопросы.
– А ты? – спрашивает он – Как много ты знаешь о своих предках?
Этот вопрос заставляет меня задуматься. Я знаю многое и все же это до обидного мало. Рассказываю ему скупо, ведь я боюсь того, что мы оба страшимся услышать. Да и бред это все. Выдумки и быть не может. Он молчит и смотрит немного странно, как будто ожидает от меня какого-то действия или слов. Или мне только кажется?
– Нам, наверное, пора – неуверенно говорит он.
И снова достает старые часы. Я смотрю на механизм с недоумение. Что с ним не так? А ведь что-то не так, я это чувствую.
– Можно взглянуть? – спрашиваю я и кивком головы показываю на часы.
Он колеблется не более секунды и протягивает мне тусклую металлическую луковицу. Зачем тебе это, Энсио? Ты же не любитель антиквариата и не знаток древностей. И все же интересно, ведь в наше время не часто встретишь подобную диковинку. Цифры на циферблате римские и я с некоторым усилием соображаю, что стрелки показывают пять часов с минутами пополудни – вроде бы правильное время. Секундной стрелки на циферблате нет и я прикладываю механизм к уху – часы идут. На задней крышке виднеется скважина для заводного ключа. Неужели у него есть и ключ?
– Странные часы – бормочу я, возвращая их.
Зачем я это сказал? На первый взгляд ничего странного в часах нет, антиквариат как антиквариат. И все же что-то не так и я явственно чувствую: нечто необычное кроется в этих старых часах. Вот только что именно?
– Это часы моего деда – он усмехается – Семейная реликвия. Ходят до сих пор, хотя ты не представляешь, как сложно их чинить. К счастью, на блошином рынке в Яффо еще остались часовщики, последние в своем ремесле…
Внезапно я понимаю, что показалось мне странным: сейчас, когда часы повернуты циферблатом ко мне, я вижу, что на них нет передней крышки. Вместо латунного или медного диска стрелки циферблата защищает нелепый пластмассовый колпачок со множеством царапин на прозрачной поверхности. Как странно! Пластик на латуни выглядит диссонансом, как матерное слово на концерте старинной музыки. Но где же крышка? Впрочем… Старая вещица, не удивительно, что сломалось крепление и крышка потерялась. Просто-напросто утеряна и все… и не надо забивать голову фантазиями. И все же… Неужели это то, о чем я думаю? И такое знакомое имя его матери, которую я никогда не видел и даже не знал о ее существовании. Да ну, перестань, Энсио. Это же глупость… Чушь собачья… Не может быть такого совпадения… Всего лишь семейная легенда, не более. Почему же тогда похолодели кончики пальцев и сердце заколотилось в груди? Может быть, приходит в голову идиотская мысль, оно бьется в такт беззвучному балансиру загадочных часов. Более мудрых мыслей нет, мелькают лишь обрывки эмоций. Да нет же, не может быть! Ты ведь изжил в себе бесплодную юношескую романтику и, разменяв шестой десяток, уверенно превратился в рационалиста и скептика. Ты больше не веришь в мистику и совпадения. Или веришь?