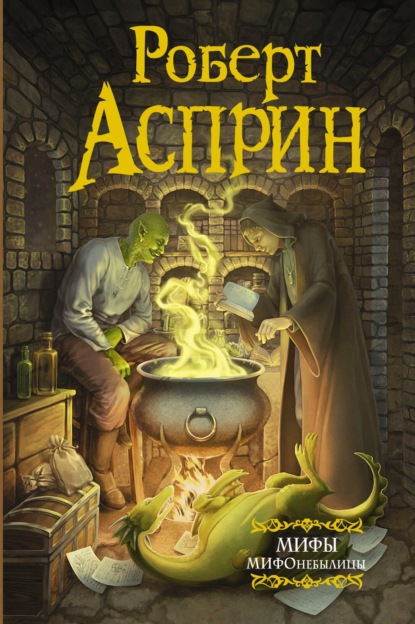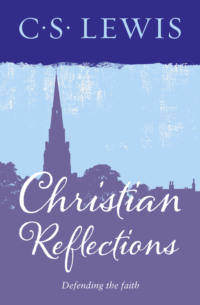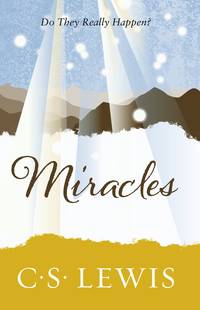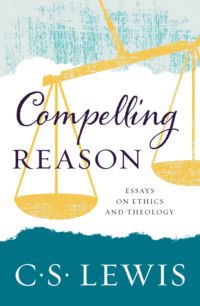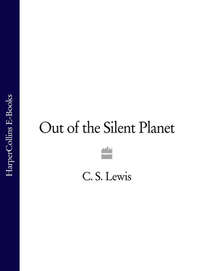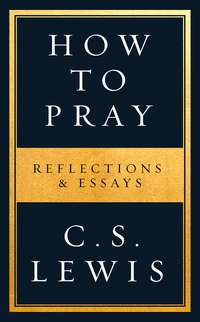Полная версия
Космическая трилогия
Именно доктору Рэнсому пришла в голову отличная мысль: изложить сведения, которые никто не посчитает достоверными, в формате художественной прозы. Он даже решил (изрядно переоценивая мои литературные таланты), что подобный вид обнародования имеет и свои преимущества: так мы сумеем обратиться к очень широкому кругу аудитории, минуя «Уэстона». Я сперва возражал, ведь беллетристику изначально воспримут как вымысел, однако доктор Рэнсом справедливо заметил, что все равно найдутся читатели (пусть на первых порах их будет немного), которые верно разгадают заложенный в тексте посыл.
– Они легко найдут нас с вами или опознают Уэстона, – сказал он. – Нам в любом случае нет нужды убеждать этих людей в своей правоте, надо лишь ознакомить их с некоторыми идеями. Если хотя бы сотая часть наших читателей станет воспринимать пустое космическое пространство как небесную сферу, уже будет замечательно.
Никто из нас не мог предвидеть, что вскоре развернутся события, из-за которых книга устареет еще до своей публикации. Из-за событий этих она станет не рассказом, а скорее лишь прологом к нему. Впрочем, пусть все идет своим чередом. Что касается дальнейших приключений, то, как задолго до Киплинга говорил Аристотель,[15] «это уже другая история».[16]
Постскриптум
(Выдержки из письма прототипа «доктора Рэнсома» автору)
…Возможно, вы рассуждаете верно, и если внести две-три правки (они отмечены красным), текст сгодится. Хотя, признаюсь, я разочарован. Впрочем, любая попытка описать Малакандру, по мнению человека, там бывавшего, обречена на провал. Я даже не говорю о том, как безжалостно вы обошлись с филологической частью, представив читателю прямо-таки карикатуру на малакандрийский язык. Важнее другое, уж не знаю, какими словами выразить… Как передать запахи Малакандры? Они до сих пор мне снятся, особенно ароматы лиловых стеблей по утрам, хотя само упоминание о «растениях» и «утре» вводит читателя в заблуждение, заставляя думать о мхе, паутине и прочих земных запахах. Только они-то на Малакандре совсем другие! Более душистые, но не густые, тяжелые или экзотичные, как можно было бы подумать. Скорее, чуточку пряные, тонкие, едва уловимо щиплющие нос; для обоняния – все равно что заливистые звуки скрипки для уха. А вместе с ними я всегда слышу и музыку: глухое горловое пение, басистее, чем у Шаляпина, эдакий «теплый темный шум». И в эти моменты я невольно тоскую по малакандрийским долинам, хотя, когда жил там, безмерно изнывал по Земле.
Вы, конечно же, правы, и раз мы подаем эту историю как художественный вымысел, необходимо сократить ту часть, когда я жил в деревне хросса, потому что тогда, по вашим словам, «практически ничего не происходило». Просто мне очень жаль эти фрагменты. На мой взгляд, именно те безмятежные недели, будничная жизнь среди хросса – лучшее, что со мной приключилось. Я узнал их, Льюис, узнал так, как нельзя передать в романе. Например, в отпуск я всегда беру с собой градусник (эта привычка не раз меня выручала), поэтому знаю, что температура их тела около ста трех градусов по Фаренгейту. Еще знаю, хоть и не помню откуда, что живут они около восьмидесяти марсианских лет, или ста шестидесяти земных, женятся примерно в двадцать (по-нашему в сорок); что в процессе испражнения для них, как у лошадей, нет ничего постыдного, а экскременты используются в сельском хозяйстве; они не проливают слез и не моргают, в праздники (которых у них очень много) «бывают навеселе», как сказали бы у нас, но не пьянеют по-настоящему. Однако к чему эти обрывистые сведения? Они не более чем воспоминания, которые нельзя выразить словами, и никто в этом мире из этих клочков не сложит верную картину. Например, как мне объяснить – даже вам! – что малакандрийцы не заводят домашних питомцев и вообще не испытывают к животным того умиления, что мы? Мне достаточно было лишь увидеть представителей всех трех рас вместе. Каждый из них для другого – и человек, и питомец одновременно. Они могут говорить, общаться, разделять некие интересы, в этом плане сорн и хросса взаимодействуют наравне. И все же каждый из них считает другого совершенно отличным от него созданием: забавным и оттого умилительным – совсем как мы зверушек. Тот инстинкт, который живет в каждом из нас и который мы пытаемся унять, общаясь с неразумными тварями порой как с равными себе, на Малакандре утолен сполна. Домашние животные им просто не нужны.
И раз уж зашла речь о разнице между расами… Очень жаль, что особенности художественной прозы вынуждают нас упрощать биологию. Неужто по моим рассказам у вас сложилось впечатление, будто каждый из трех видов абсолютно гомогенный? Если так – простите. Взять тех же хросса: я жил среди черных, но есть и серебристые, а где-то в западных хандрамитах обитают хохлатые – очень крупные, более десяти футов ростом, и чаще танцоры, нежели певцы; как по мне, самые благородные на вид создания после человека. Хохолок есть только у мужчин. Еще в Мельдилорне я видел белоснежного хросса, однако по глупости своей не выяснил, является ли он представителем еще одной разновидности, или просто то был местный альбинос. У сорнов также имеется по крайней мере еще один вид помимо знакомых мне – сороборны, или красные сорны пустыни, живущие в песках севера. Судя по описанию, выглядят они умопомрачительно!
Не перестану сокрушаться, что так и не побывал на родине пфифльтриггов. Правда, я выяснил достаточно, чтобы «сочинить» визит к ним для нашего романа, однако не думаю, что нам стоит вводить в книгу совсем уж полный вымысел. Для землян понятие «почти правды» выглядит привычным, но я не могу представить, как буду объяснять его Уарсе, а у меня есть подозрение (о чем я уже упоминал в предыдущем письме), что наша встреча была не последней. И раз уж на то пошло: почему «читателям» (а вы, как вижу, чертовски хорошо понимаете их потребности) знать о языке ничего не надо, а вот пфифльтриггов им подавай? Впрочем, вы, конечно же, вольны их описать, и не будет лишним упомянуть, что они откладывают яйца, что у них матриархат, и живут они гораздо меньше прочих рас. Великие равнины, где они обитают, прежде наверняка были дном мирового океана. Хросса, бывавшие в тех местах, говорили, что лес их засыпан песком, а вокруг – «окаменелые, окостенелые древние волны». Должно быть, это и есть те самые темные участки на Марсе, видимые с Земли.
Кстати: после возвращения я изучил немало марсианских карт, и все они разнятся настолько, что в итоге я оставил попытки отыскать свой хандрамит. Если желаете попробовать сами, ищите в районе канала «северо-восток – юго-запад», пересекающего «северный и южный канал» милях в двадцати от экватора. Однако каждый астроном видит по-своему.
Теперь о вашем самом досадном вопросе: «Неужели Огрей, описывая эльдилов, смешивает понятия тонкой материи и высшего существа»? Нет, смешиваете их вы! Огрей произнес два разных высказывания: что тела эльдилов устроены иначе, нежели у всех прочих созданий на планете, и что разумом они превосходят остальных. Ни он, ни кто-либо другой на Малакандре не пытался связать эти понятия воедино или вывести одно из другого. Более того, у меня есть причины предполагать, что существуют и другие неразумные твари с такими же телами (вспомнить хотя бы «воздушных зверей» у Чосера[17]).
Я все думаю, как вам удастся обойти вопрос о речи эльдилов. Согласен, если писать об этом в сцене суда, неуместная вставка испортит повествование, зато многим читателям хватит сообразительности спросить: как же эльдилы, которые, судя по всему, вовсе не дышат, могут разговаривать? Мы действительно не знаем ответа… но стоит ли признаваться в этом читателю? Я поделился с Дж. (единственным ученым, которому можно доверять) вашей теорией о том, что якобы у эльдилов есть некий инструмент, или даже орган, «работающий» с окружающим воздухом и способный извлекать звуки. Так вот Дж. не согласен. Он склонен считать, что они скорее воздействуют непосредственно на слух «собеседника». Все это, конечно же, очень сложно. Нельзя забывать, что мы не имеем ни малейшего представления ни о форме и размерах эльдилов, ни об их взаимодействии с пространством (в нашем понимании пространства). Важно подчеркнуть: мы действительно ничего об эльдилах не знаем. Как и вы, я с трудом удерживаюсь от соблазна соотнести их с каким-нибудь существом из земной мифологии, к примеру с богами, ангелами или феями. Однако, опять-таки, нам недостает сведений. Я пытался изложить Уарсе основные постулаты христианской ангелологии, и он, как мне показалось, посчитал их существами иной природы. Правда, я не понял, в чем отличие, может, он просто принял наших ангелов за некую воинствующую касту (а бедняжка-Земля тем самым предстала в моих рассказах чем-то вроде боевой арены в галактических масштабах).
Почему вы убрали мой рассказ о заевшей в момент приземления на Малакандру заслонке? Без этого описание наших мучений от чересчур яркого света во время обратной дороги вызывает закономерный вопрос: почему путешественники просто не закрыли заслонку? Я не согласен, будто «читатели таких мелочей не замечают». Уверен: замечают, еще как!
И жаль, что вы не включили в книгу две сцены. Хотя не важно, обе живут во мне. Стоит закрыть глаза – и они встают во всем своем великолепии.
Вот первая – небо Малакандры поутру: светло-голубое, такое бледное, что ныне, когда я заново привык к земным небесам, оно кажется мне белым. На нем – макушки гигантских растений (вы упрямо именуете их «деревьями»): вблизи черные, а вдали, за ослепительным простором синих вод – лилово-акварельные. Под ногами на блеклой траве тени, как на снегу. А впереди движутся силуэты: стройные, невзирая на громадный рост, черные и гладкие, как цилиндр; исполинские круглые головы покачиваются над гибким телом, будто макушки тюльпанов на тонком стебле. Хросса с песней спускаются к озеру, и музыка заполняет лес тихой, едва слышимой дрожью, почти как отголоски далекого орга́на. Троим помогают забраться в лодку, но прочие остаются на берегу. Все происходит очень медленно: это не обычная прогулка, это ритуал. Похороны хросса. Те трое с серыми мордами, которые сели в лодку, плывут в Мельдилорн умирать. В этом мире никто не умирает до срока, помимо тех, кого забрала хнарха. Все в полной мере проживают отведенное им время, и смерть столь же ожидаема, как и рождение. Каждый в деревне знал, что эти трое умрут в этом году и в этом месяце – предвидели даже, что на этой неделе. И вот они уходят к Уарсе получить последнее напутствие, умереть и «рассеяться». Даже тел их не останется: на Малакандре нет гробов, нет исповедников, кладбищ или могильщиков. Вся долина провожает умирающих, но я не вижу на лицах скорби. Хросса верят в свое бессмертие, верят, что друзья будут неразлучны и в следующем воплощении. Ровесники покидают этот мир, как и появились на свет – вместе.[18] Смерти не предшествует страх, за ней не следует разложение.
А вот другая сцена – ночная. Я купаюсь в теплом озере с Хьои. Он смеется над моими неловкими движениями, потому что я, привыкнув к более тяжелому миру, едва держусь на воде. И вдруг, подняв глаза, я замечаю звездное небо. Оно почти неотличимо от нашего, только чернее и ярче, и на западе творится такое, чего на Земле и представить нельзя. Вообразите Млечный Путь, увеличенный во много крат: таким, как его видно в самую ясную ночь через мощный телескоп. А теперь представьте, что он не тянется сквозь все небо, а полыхает гигантским созвездием с краю, над горными вершинами. Слепящее ожерелье огней занимает едва ли пятую часть неба, оставляя у самого горизонта черную полосу. Оно столь яркое, что больно глазам. Однако и это еще не все. Понемногу харандра наливается светом, словно вот-вот взойдет луна. «Ахихра!» – кричит Хьои, и из темноты ему вторят чужие хриплые голоса. И вот выплывает истинный король ночи, он прокладывает себе путь сквозь причудливую галактику на западе, и огни ее меркнут перед этим сиянием. Я отвожу взгляд: диск этот много ярче нашей Луны. Весь хандрамит залит бесцветным светом, я могу сосчитать каждый стебель на том берегу озера, я вижу собственные ногти, обломанные и грязные. И вот я догадываюсь, что передо мной Юпитер, вздымающийся за поясом астероидов, на сорок миллионов миль ближе, чем когда-либо видел человеческий глаз. Малакандрийцы бы сказали «среди астероидов», у них есть давняя привычка порой выворачивать Солнечную систему наизнанку. Астероиды они зовут «танцорами на пороге Великих миров». Великие миры – это планеты, которые, как мы говорим, находятся «вне» пояса астероидов. И величайший из них – именно Глундандра (или Юпитер). Это «центр», «большой Мельдилорн», «трон» и «пиршество». Они, конечно же, сознают, что планета эта необитаема, по крайней мере там нет подобных им существ. Не пытаются они и язычески «поселить» там Малельдила. И все-таки с Юпитером у них связано нечто очень важное, однако что именно – «знают серони». Мне они никогда не говорили. Наверное, лучше всего об этом сказано у автора,[19] о котором я уже упоминал: «Как говаривал Публий Африканский[20], никогда он не бывал менее одинок, чем когда оставался один; следуя этой философии, во всей Вселенной не сыскать менее уединенного места, нежели то, которое считают уединенным плебеи, ибо когда уходят люди и звери, на смену им приходят более возвышенные создания».
Впрочем, об этом при личной встрече. Пока же я стараюсь читать все старые книги по нашей тематике, которые только удается достать. Теперь, когда «Уэстон» захлопнул дверь, путь на другие планеты пролегает через прошлое, и если нам предстоят еще космические странствия, то быть им вдобавок путешествиями во времени!..
Переландра[21]
Глава I
Я сошел с поезда у Вустера и отправился пешком к дому Рэнсома (до него было три мили), размышляя по дороге, что ни один из пассажиров, оставшихся на станции, не мог бы и вообразить, что повидал тот, к кому я иду. Унылая равнина – поселок был за ней, милях в трех к северу от станции – ничем не отличалась от других равнин. Сумрачное предвечернее небо было таким же, как всегда осенью. Редкие дома, купы красных и желтых деревьев – нигде ничего особенного. И вот, миновав эту тихую, скромную местность, я увижу того, кто побывал – и жил, и ел, и пил – в сорока миллионах миль отсюда, на планете, с которой Земля кажется крохотной зеленой искоркой, и разговаривал с существом, помнившим времена, когда здесь, у нас, еще никого не было.
На Марсе Рэнсом видел не только марсиан. Он встретил существ, которые называют себя эльдилами, и даже Великого Эльдила, который правит Марсом и зовется там Уарсой Малакандры. Эльдилы отличаются от тех, кто обитает на планетах. Их тело – если это тело – совсем иное, чем у нас или у марсиан. Они не едят, не дышат, не рождаются, не умирают – словом, в этом они больше похожи на минералы, способные мыслить, чем на то, что мы назвали бы живым существом. Они часто появляются на планетах и, по нашим понятиям, живут там, но определить, где они, очень трудно. Сами они считают своим обиталищем космос («Глубокие Небеса»), и планеты для них – не миры, просто движущиеся точки, а то и разрывы в едином поле, которое мы называем Солнечной системой, они – Арболом.
Рэнсом вызвал меня телеграммой: «Если можете, приезжайте четверг важному делу». Я догадывался, какое это дело, и хотя твердил себе, что провести вечер с Рэнсомом очень приятно, так и не смог избавиться от тревожных предчувствий. Тревожили меня эльдилы – к тому, что Рэнсом побывал на Марсе, я еще как-то притерпелся, но эльдилы, существа, чья жизнь практически бесконечна… Да и само путешествие не очень мне нравилось. Побывав в ином мире, поневоле изменишься, хотя и не скажешь точно в чем. Когда речь идет о давнем друге, не так уж это приятно, – прежние отношения восстановить нелегко. Но гораздо хуже другое: я все больше убеждался, что и тут, на Земле, эльдилы не оставляют его. Что-то проскальзывало в его речи – случайный намек, порою жест, от которых он тут же неуклюже отнекивался. Словом, он общался с кем-то, у него… ну, кто-то бывал.
Я шел по пустынной неогороженной дороге, пересекавшей Вустерскую пустошь, и пытался прогнать дурные предчувствия, анализируя их. Чего, в конце концов, я боюсь? Едва я задал себе этот вопрос, я пожалел о нем. Меня поразило слово «боюсь». До сих пор я хотел убедить себя, что речь идет о неприязни, неловкости, на худой конец – скуке. Но вот я произнес «боюсь» и ощутил страх. Я боялся все время, именно боялся – и того, что встречу эльдилов, и того, что меня во что-то втянут. Наверное, все знают, как страшно «влипнуть»: ты просто думал, размышлял, и вдруг оказывается, что ты вступил в коммунистическую партию или вернулся в лоно церкви, дверь захлопнулась, ты внутри, по ту сторону. Собственно, так случилось с Рэнсомом. Он попал на Марс (на Малакандру) помимо своей воли, почти случайно; другая недобрая случайность подключила к этой истории и меня. Нас все больше и больше втягивало в эту, с позволения сказать, межпланетную политику. Не знаю, сумею ли я вам объяснить, почему мне так не хотелось знакомиться с эльдилами. Я не просто – и разумно – старался избежать чужих, могучих и очень мудрых созданий. Все, что я слышал о них, вынуждало соединить два представления, которые очень разделены, и это меня отпугивало. Мы привыкли относить нечеловеческий разум либо к «научному», либо к «сверхъестественному». В одном настроении мы думаем о марсианах Уэллса (которые, кстати сказать, сильно отличаются от обитателей Малакандры), в другом – об ангелах, духах, феях и тому подобном. Но если эти существа реальны, граница между классами стирается – и вовсе исчезает, когда речь идет об эльдилах. Они не животные – в этом смысле они подпадут под вторую категорию, но у них есть некое подобие тела, которое (в принципе) можно зафиксировать научно; и в этом они относятся к первой группе. Перегородка между естественным и сверхъестественным рухнула; и тут я узнал, как успокаивала она, как облегчала нам бремя странного мира, с которым мы вынуждены общаться, разделив его надвое, чтобы мы не думали о нем в его цельности. Другое дело, какую цену мы платим за этот покой – путаницу в мыслях и ложное ощущение безопасности.
«Какая долгая, тоскливая дорога, – бормотал я. – Хорошо еще, что ничего не надо нести».
Тут я вздрогнул, сообразив, что нести как раз надо – я ведь взял с собой вещи. Я чертыхнулся: значит, чемоданчик остался в поезде. Поверите ли, что сперва я решил вернуться на станцию «и что-нибудь сделать». Конечно, делать было нечего, я мог с тем же успехом позвонить от Рэнсома. Поезд с моим чемоданом так и так далеко ушел.
Теперь я это понимаю, но тогда мне казалось, что необходимо вернуться, и я повернул было, прежде чем разум или совесть побудили меня идти дальше. Тут я понял гораздо яснее, что идти вперед мне очень не хочется. Это было очень трудно, словно я шел против сильного ветра, хотя вечер был тихий – ни одна ветка не шевелилась – и спускался туман.
Чем дальше я шел, тем чаще все мои мысли обращались к эльдилам. Что, в самом деле, знает о них Рэнсом? Сам он говорил, что они почти не посещают Землю, а может быть, даже и вообще не бывали тут до его визита на Марс. У нас есть свои эльдилы, теллурийские, но они совсем иные и человеку враждебны. Собственно, потому наш мир и не общается с другими планетами. Мы – как бы в осаде, вернее – на территории, захваченной теми эльдилами, которые враждебны и нам, и эльдилам «Глубоких Небес». Они кишат здесь, у нас, как микробы, и все отравляют, только их мы не видим потому, что они слишком велики, а не слишком малы. Это из-за них на самом деле все у нас пошло не туда – произошло то злосчастное падение, в котором главный урок истории. Тогда мы должны радоваться, что светлые эльдилы прорвали линию обороны там, где орбита Луны, – конечно, если Рэнсом все правильно рассказал.
Мерзкая мысль посетила меня – а что, если Рэнсома обманули? Предположим, какая-то внешняя сила хочет захватить Землю; может ли она придумать лучшее прикрытие? Где хоть малое доказательство, что на Земле живут злые эльдилы? Мой друг, сам того не понимая, оказался мостиком для врага, троянским конем, с чьей помощью враг захватит Землю. И снова, как и тогда, когда я обнаружил, что нет багажа, мне захотелось вернуться.
«Вернись, вернись, – как бы слышал я. – Пошлешь ему телеграмму, что болен, приедешь потом, да мало ли что!»
Меня удивило, что это желание так сильно. Я остановился, постоял, запрещая себе всякие глупости, и, когда снова двинулся вперед, подумал, не начинается ли нервный приступ. Едва эта мысль пришла мне в голову, она стала очередным доводом против визита к Рэнсому – конечно, я не гожусь для странных дел, на которые намекала телеграмма. Я не должен был даже отлучаться из дому, разумно одно – поскорее вернуться и позвонить врачу, пока не начался самый приступ и не отказала память. Просто безумие идти дальше.
Я дошел до конца равнины и спускался вниз. Слева была роща, справа – покинутое здание какой-то фабрики. Внизу собирался туман.
«Сперва они назовут это нервным приступом, – думал я, – а потом…»
Вроде бы есть какое-то душевное заболевание, при котором страшно боятся самых обычных вещей – вот как я боюсь теперь заброшенного строения. Кучи цемента и странные кирпичные стены глядели на меня поверх сухой и пыльной травы, серых луж и сломанных рельсов. Такие вот странные штуки видел и Рэнсом на Марсе, только там они были живые. Гигантских пауков он называл сорнами. Хуже того – он считал их хорошими, гораздо лучше, чем мы, люди. Он с ними в заговоре! Кто знает, обманули его или нет… А что как все гораздо хуже? Он сам гораздо хуже… И тут я снова остановился.
Читатель не знает Рэнсома и не сможет понять, как нелепа такая мысль. Даже в эту минуту здравая часть души моей прекрасно знала: если вся Вселенная безумна и враждебна, Рэнсом честен и здоров. Только это и вело меня вперед, но с каким трудом, с каким трудом! В глубине души я твердо верил, что каждый шаг приближает меня к другу, а чувствовал, что иду к врагу, к предателю, колдуну, заговорщику… иду, как дурак, прямо в ловушку.
«Сперва это назовут нервным припадком, – продолжал тот же голос, – сперва тебя положат в больницу, а там и в сумасшедший дом».
Я миновал вымершую фабрику и окунулся в туман, в холод. Мимо меня что-то промелькнуло, и меня пронзил такой бессмысленный и всепоглощающий ужас, что я чуть не вскрикнул. Это кошка перебежала дорогу; но силы совсем покинули меня, а мучитель внутри не унимался.
«Скоро и впрямь закричишь, – говорил он. – Будешь вопить, вопить, вопить и никогда не остановишься».
У края дороги стоял пустой дом с заколоченными окнами; только в одном окне блеснуло стекло, словно глаз дохлой рыбы. Обычно я думал о привидениях не больше, чем вы, – и не меньше, пожалуй. Но теперь я чувствовал точно: в этом доме – призраки, привидения… нет, какое слово! Ребенок, и не слышавший его, содрогнется, если один взрослый скажет в сумерках другому: «А там есть привидения».
Наконец я добрался до перекрестка, где стояла часовня методистской церкви, – отсюда я повернул бы налево, к березовой роще, и увидел бы свет в окнах Рэнсома, если не настало время затемнения. Этого я не знал, часы у меня остановились. Вроде бы стемнело, но ведь был туман. Да я и не темноты боялся. Бывает же так, что вещи кажутся живыми, у них свое выражение лица, и вот, мне очень не нравилось лицо этой дороги.
«Неправда, что сумасшедшие не чувствуют начала болезни», – продолжал все тот же голос.
А что, если именно здесь я и сойду с ума? Тогда, конечно, мне мерещится, что влажные от тумана стволы враждебно поджидают меня. Но это меня не утешило. Если ужас мерещится, он не легче, он страшнее, ведь с ним соединяется страх перед безумием и оно само, и совсем уж чудовищное чувство: только те, кого называют сумасшедшими, видят истинный, ужасный лик мира.
Все это обрушилось на меня. Я шел сквозь холодную тьму и был почти уверен, что вхожу в безумие. О здравомыслии я думал все хуже и хуже. Разве оно и раньше не было условностью, удобной ширмой, привычным самообманом, скрывавшим от нас чуждый и враждебный мир, в котором приходится жить? То, что я слышал за последние месяцы от Рэнсома, выходило за рамки «нормального», но я зашел далеко и не считал его рассказ вымыслом. Только вот правильно ли он все понял, был ли он вполне честен? Что же до тех, кого он видел, в них я не сомневался – в этих пфифльтриггах, и хроссах и сорнах, и межпланетных эльдилах. Я не сомневался даже в том таинственном существе, которое эльдилы именуют Малельдилом и почитают, как никто не почитает земных владык. Я знал, кем считает его Рэнсом.
Показался дом, совсем темный. Я чуть не расплакался, как ребенок, – нет, почему Рэнсом не вышел меня встретить? Потом, совсем уж по-детски, я подумал, что он притаился в саду и вот-вот бросится на меня сзади. А может, я сам увижу его со спины, подойду, он обернется, а это – совсем и не человек.
Конечно, я не хотел бы рассказывать об этом подробно; я и вспоминаю-то все со стыдом, и не стал бы затягивать свой рассказ, но мне кажется, что иначе не понять всего остального. Да я и не могу описать, как добрался до двери коттеджа. Страх и отвращение гнали меня прочь, я должен был пробить невидимую стену, я бился за каждый шаг, снова едва не вскрикнул, когда лица моего коснулась ветка, – но все же вошел в сад и как-то добрался по дорожке до дома. Тут я стал стучаться, рвать ручку, звать Рэнсома, словно моя жизнь зависела от того, откроет он или нет.