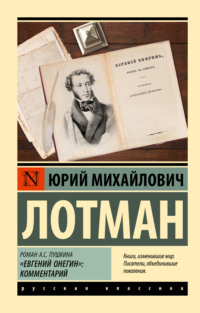Полная версия
Комментарии к роману «Евгений Онегин». Биография А. С. Пушкина
Союз благоденствия не был достаточно конспиративной организацией в значении, придававшемся этому слову в последующей революционной традиции: о существовании его было широко известно. Характерно, что, когда М. Орлов попросил у генерала Н. И. Раевского руки его дочери, будущий тесть условием брака поставил выход Орлова из тайного общества. Следовательно, Раевский знал не только о существовании общества, но и о том, кто является его членами, и обсуждал этот вопрос так, как перед женитьбой обсуждали вопросы приданого.
Постоянно соприкасаясь с участниками тайного общества, Пушкин, конечно, знал о его существовании и явно стремился войти в его круг. То, что он не получал приглашения и даже наталкивался на вежливый, но твердый отпор со стороны столь близких ему людей, как Пущин, конечно, его безмерно уязвляло. Если мы не будем учитывать того, в какой мере он был задет и травмирован, с одной стороны, назойливыми поучениями наставников, с другой – недоверием друзей, для нас останется загадкой лихорадочная нервозность, напряженность, характерные для душевного состояния Пушкина этих лет. Они выражаются, например, в том, что он в любую минуту ожидает обид и постоянно готов ответить на них вызовом на дуэль. Летом 1817 г. он по ничтожному поводу вызвал на дуэль старика-дядю С. И. Ганнибала, вызывал на поединок Н. Тургенева, однокурсника по лицею М. Корфа, майора Денисовича и, видимо, многих других. Е. А. Карамзина писала брату Вяземскому: «…у г. Пушкина всякий день дуэли; слава Богу, не смертоносные…»[46] Не все дуэли удавалось уладить, не доводя дела до «поля чести»: осенью 1819 г. Пушкин стрелялся с Кюхельбекером (по вызову последнего), оба выстрелили в воздух (дело кончилось дружеским примирением). Позднее он признавался Ф. Н. Лугинину, что в Петербурге имел серьезную дуэль (есть предположение, что противником его был Рылеев).
В этот период душевной смуты спасительным для Пушкина оказалось сближение с П. Я. Чаадаевым.
Петр Яковлевич Чаадаев, с которым Пушкин познакомился еще лицеистом в доме Карамзина, был одним из замечательнейших людей своего времени. Получивший блестящее домашнее образование, выросший в обстановке культурного аристократического гнезда в доме историка М. М. Щербатова, который приходился ему дедом, Чаадаев шестнадцати лет вступил в гвардейский Семеновский полк, с которым проделал путь от Бородина до Парижа. В интересующие нас сейчас годы он числился в лейб-гвардии Гусарском полку, был адъютантом командира гвардейского корпуса Васильчикова и квартировал в Демутовом трактире[47] в Петербурге. «Чаадаев был красив собою, отличался не гусарскими, а какими-то английскими, чуть ли даже не байроновскими манерами и имел блистательный успех в тогдашнем петербургском обществе»[48].
Чаадаев был членом Союза благоденствия, но не проявлял в нем активности: тактика медленной пропаганды, распространение свободолюбивых идей и дела филантропии его, видимо, привлекали мало. Чаадаев охвачен жаждой славы – славы огромной, неслыханной, славы, которая навсегда внесет его имя в скрижали истории России и Европы. Пример Наполеона кружил ему голову, а мысль о своем избранничестве, об ожидающем его исключительном жребии не покидала всю жизнь. Его манил путь русского Брута или русского маркиза Позы[49]: не столь уж существенна разница, заколоть ли тирана кинжалом во имя свободы или увлечь его пламенной проповедью за собой; важно другое – впереди должна быть борьба за свободу, героическая гибель и бессмертная слава.
В кабинете Чаадаева:
Где ты всегда мудрец, а иногда мечтательИ ветреной толпы бесстрастный наблюдатель (II, 189) —как писал Пушкин в 1821 г. – поэта охватывала атмосфера величия.
Чаадаев учил Пушкина готовиться к великому будущему и уважать в себе человека, имя которого принадлежит потомству. Чаадаев тоже давал Пушкину уроки и требовал от него «в просвещении стать с веком наравне». Однако поучения его ставили Пушкина в положение не школьника, а героя. Они не унижали, а возвышали Пушкина в собственных глазах.
Великое будущее, готовиться к которому Чаадаев призывал Пушкина, лишь отчасти было связано с поэзией: в кабинете Демутова трактира, видимо, речь шла и о том, чтобы повторить в России подвиг Брута и Кассия – ударом меча освободить родину от тирана. Декабрист Якушкин рассказал в своих мемуарах о том, что, когда в 1821 г. в Каменке декабристы, для того чтобы отвести подозрения А. Н. Раевского (сына генерала), разыграли сцену организации тайного общества и тут же обратили все в шутку, Пушкин с горечью воскликнул: «Я уже видел жизнь мою облагороженную и высокую цель перед собой»[50]. «Жизнь, облагороженная высокою целью», «цель великодушная» – за этими словами Пушкина стоит мечта о великом предназначении. Даже гибель – предмет зависти, если она связана с поприщем, на котором человек «принадлежит истории». Беседы с Чаадаевым учили Пушкина видеть и свою жизнь «облагороженной высокою целью». Только обстановкой разговоров о тираноубийстве можно объяснить гордые слова:
И на обломках самовластьяНапишут наши имена! (II, 72)Почему на обломках русского самодержавия должны написать имена Чаадаева, «двадцатилетнего с небольшим молодого человека, который ничего не написал, ни на каком поприще ничем себя не отличил», как ядовито писал о нем один из мемуаристов, и Пушкина, ничем еще о себе не заявившего в политической жизни и даже не допущенного в круг русских конспираторов? Странность этих стихов для нас скрадывается тем, что в них мы видим обращение ко всей свободолюбивой молодежи, а Пушкина воспринимаем в лучах его последующей славы. Но в 1818–1820 гг. (стихотворение датируется приблизительно) оно может быть понято лишь в свете героических и честолюбивых планов.
Именно в этих планах Пушкин нашел точку опоры в одну из самых горьких минут своей жизни. Многочисленные свидетельства современников подтверждают обаяние Пушкина, его одаренность в дружбе и талантливость в любви. Но он умел возбуждать и ненависть, и у него всегда были враги. В Петербурге 1819–1820 гг. нашлось достаточно людей, добровольно доносивших правительству о стихах, словах и выходках Пушкина. Особенно усердствовал В. Н. Каразин – беспокойный и завистливый человек, одержимый честолюбием. Чужая слава вызывала у него искреннее страдание. Доносы его, доведенные до сведения Александра I, были тем более ядовиты, что Пушкин представал в них личным оскорбителем царя, а мнительный и злопамятный Александр мог простить самые смелые мысли, но никогда не прощал и не забывал личных обид. 19 апреля 1820 г. Н. М. Карамзин писал Дмитриеву: «Над здешним поэтом Пушкиным если не туча, то по крайней мере облако, и громоносное (это между нами): служа под знаменем Либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей и проч., и проч. Это узнала Полиция etc. Опасаются следствий»[51].
В то время, когда решалась судьба Пушкина и друзья хлопотали за поэта перед императором, по Петербургу поползла гнусная сплетня о том, что поэт был секретно, по приказанию правительства, высечен. Распустил ее известный авантюрист, бретер, картежник Ф. И. Толстой (Американец). Пушкин не знал источника клеветы и был совершенно потрясен, считая себя бесповоротно опозоренным, а жизнь свою – уничтоженной. Не зная, на что решиться – покончить ли с собой или убить императора как косвенного виновника сплетни, – он бросился к Чаадаеву. Здесь он нашел успокоение: Чаадаев доказал ему, что человек, которому предстоит великое поприще, должен презирать клевету и быть выше своих гонителей.
В минуту гибели над бездной потаеннойТы поддержал меня недремлющей рукой;Ты другу заменил надежду и покой;Во глубину души вникая строгим взором,Ты оживлял ее советом иль укором;Твой жар воспламенял к высокому любовь;Терпенье смелое во мне рождалось вновь;Уж голос клеветы не мог меня обидеть,Умел я презирать, умея ненавидеть (II, 188).Хлопоты Карамзина, Чаадаева, Ф. Глинки несколько облегчили участь Пушкина: ни Сибирь, ни Соловки не стали местом его ссылки. 6 мая 1820 г. он выехал из Петербурга на юг с назначением в канцелярию генерал-лейтенанта И. Н. Инзова.
Глава третья
Юг. 1820—1824
Пушкин направлялся в Екатеринослав, где в это время находилась резиденция начальника иностранных колонистов на юге России И. Н. Инзова, к чьей канцелярии он был причислен (Инзов вскоре был назначен исполнять должность наместника Бессарабии, а затем и Новороссийского края, в его руках сосредоточилась огромная административная власть). Формально Пушкин не был сослан: отъезду был придан характер служебного перевода. Однако начальник Пушкина (Пушкин служил по Министерству иностранных дел), либеральный министр граф И. А. Каподистриа, по требованию императора изложил Инзову в письме все «вины» молодого поэта. Мера эта, однако, возымела обратное действие: Инзов, побочный брат масона и друга Н. И. Новикова Н. Н. Трубецкого, воспитанный в нравственной атмосфере новиковского кружка, соединял истинную храбрость (он участвовал в десятках сражений под командованием Суворова, Милорадовича, Кутузова, уже при Требии и Нови командуя полком, а при Березине и под Лейпцигом – дивизией) с редким человеколюбием (он был специально награжден французским орденом Почетного легиона за гуманное обращение с пленными французами). Спартанец в быту, друг молодости поэта-радищевца И. П. Пнина, он втайне сочувствовал либеральным настроениям молодежи. Письмо Каподистриа оказалось для него лучшей рекомендацией, и он сразу же взял Пушкина под свою опеку.
Маршрут поэта пролегал в стороне от московского тракта – через Лугу, Великие Луки, Витебск, Могилев, Чернигов и Киев. До Царского Села его проводили друзья – Дельвиг и Яковлев. Далее он ехал один, в сопровождении крепостного дядьки Никиты Козлова. Позади была петербургская жизнь – впереди дорога. Начался период скитаний, жизни без постоянного места, без быта. Он продлился до 9 августа 1824 г., когда нога поэта ступила на порог родительского дома в Михайловском.
Дорога, оторвав Пушкина от пестрой полноты петербургской жизни, дала ему возможность осмотреться. Основной итог был таков: 11 июня 1817 г. в Петербург приехал подающий надежды мальчик, 6 мая 1820 г. через царскосельскую заставу выехал поэт, уже заслуживший известность и признание не только в кругу друзей. 15 мая цензор Тимковский подписал разрешение поэмы «Руслан и Людмила» (вышла в свет в конце июля – начале августа). Однако отрывки из нее стали появляться в печати уже с весны 1820 г., и в устном чтении она сделалась известной в кругах петербургских литераторов еще до ссылки поэта. Поэма вызвала разноречивые толки, из которых далеко не все были одобрительными (критические споры вокруг поэмы разгорелись, когда Пушкин уже находился на юге), но одно было безусловно ясно: отныне жизненный путь Пушкина определился однозначно – и в собственных глазах, и в глазах общества отныне он не шалун, пишущий стихи, а Поэт.
Самосознание это наполняло Пушкина чувством уважения к своему поприщу и говорило ему о том, что период ученичества окончен, – теперь уже не мудрые наставники, а он сам должен определять и характер своего творчества, и то, как ему вести себя. Вопрос этот приобретал новый смысл: как должен вести себя Поэт? Пушкин отдавал себе отчет в том, что отныне его человеческий облик, поведение, даже внешность оказываются таинственно, но прочно связанными с его поэзией.
Представление о том, что жизнь поэта, его личность, судьба сливаются с творчеством, составляя для публики некое единое целое, принадлежит времени романтизма. В предшествующие эпохи произведения жили для читателей своей, отдельной от авторов жизнью. В них ценили не отражение авторской индивидуальности, а близость к Истине единой, вечной, «ясной как солнце», по выражению французского философа Декарта. Биография автора воспринималась как нечто постороннее по отношению к творчеству – она не находила отражения ни в наиболее значимых высоких жанрах (например, в оде), ни даже в элегической поэзии, допускаясь в виде намеков лишь в произведения «низкие», по преимуществу комические. Читатели не искали в жизни поэта ключей к смыслу его стихотворений. Если им и давалась в руки биография писателя (это было возможно лишь по отношению к признанному великим, как правило, уже умершему поэту), то в ней выделялись некие общие иконописные черты, сближающие его с единым идеальным образом. Все, что составляло в человеке индивидуальное, – игнорировалось: биография фактически колебалась между житием и послужным списком.
Сначала предромантизм, а затем и романтизм увидел в поэте прежде всего гения, неповторимый и своеобразный дух которого выражался в оригинальности его творчества. Творчество поэта стало рассматриваться как один огромный автобиографический роман, в котором стихотворения и поэмы образовывали главы, а биография служила сюжетом. Два гения романтической Европы – Байрон и Наполеон – закрепили эти представления. Первый – тем, что, разыграв свою личную жизнь на глазах у всей Европы, превратил поэзию в цепь жгучих автобиографических признаний, второй – показав, что сама жизнь может напоминать романтическую поэму.
В России Жуковский, Д. Давыдов, Рылеев, каждый по-своему, связали свою жизнь сложными нитями со своей поэзией. Это романтическое жизнеощущение, которое тогда было еще не традицией, а витающим в воздухе живым литературным (и, шире, – культурным) переживанием, послужило для Пушкина на новом этапе его художественной жизни точкой опоры. Основываясь на нем, он пошел дальше, создав не только совершенно неповторимое искусство слова, но и совершенно неповторимое искусство жизни.
Романтическое жизнеощущение было в этот момент спасительно для Пушкина потому, что оно обеспечивало ему столь сейчас для него необходимое чувство единства своей личности. Пребывание в Петербурге исключительно обогатило Пушкина: общение с широким кругом передовых современников, участие в дискуссиях ввело его в самый центр интеллектуально-идейной жизни эпохи, напряженная жизнь сердца развила мир его эмоций. Встречи с женщинами и приобщение к очень высокой в ту пору культуре чувств и сердечных переживаний развивали душевную тонкость, способность ощущать, чувствовать, замечать и выражать нюансы чувств, а не только их примитивную гамму. Наконец, вхождение в разнообразные и разностильные коллективы обогатило его чувством стиля поведения. Результатом всего этого была исключительно развившаяся способность гибко перестраивать свою личность, меняться в разных ситуациях, быть разным. Позже Пушкин выделил эту черту в Онегине: «Как он умел казаться новым» (VI, 9).
Такая способность свидетельствовала о гибкости и богатстве души. Однако в ней была скрыта и опасность утраты внутренней ее целостности. Слишком большая многогранность и гибкость грозили потерей собственной ориентации. Романтизм здесь пришелся вовремя. Он не только помог Пушкину стать в поэзии выразителем своего поколения, но и способствовал собственному строительству его личности.
Одним из основных требований романтизма к личности гения была неизменность, подчинение единой страсти, целостность. «Один, – он был везде, холодный, неизменный…» (курсив мой. – Ю. Л.), – писал Лермонтов о Наполеоне («Последнее новоселье», 1841), придавая ему типичные черты романтического героя.
Подобно тому как в творчестве Пушкина этого периода стилистическое разнообразие предшествующих лет сменяется единством романтического стиля, личное, собственное поведение поэта заметно ориентируется на некий единый эталон. Этим идеалом, нормой становится романтический герой.
Романтический тип поведения, глядя на него с точки зрения других эпох, часто упрекали в неискренности, отсутствии простоты, видели в нем лишь красивую маску. Конечно, эпоха романтизма расплодила своих Грушницких – поверхностных и мелких любителей фразы, для которых романтическая мантия была удобным средством скрывать (в первую очередь от себя самих) собственную незначительность и неоригинальность. Но было бы глубочайшей ошибкой забывать при этом, что то же мироощущение и тот же тип отношения со средой мог давать Лермонтова или Байрона. Приравнивать романтизм к его мелкой разменной монете было бы глубоко ошибочным.
Характерной чертой романтического поведения была сознательная ориентация на тот или иной литературный тип. Романтически настроенный молодой человек определял себя именем какого-либо из персонажей расхожей мифологии романтизма: Демона или Вертера, Мельмота или Агасфера, Гяура или Дон-Жуана[52]. Между людьми своего окружения он также соответственным образом распределял роли литературных (или исторических) героев. Полученный таким образом искусственный мир становился двойником бытовой реальности. Более того, для него он был более реальным, чем «пошлая» окружающая действительность. Так он видел и так понимал мир и людей.
Книжность в строе души отнюдь не означала у лучших представителей поколения неискренности или манерности. Напротив, она часто сочеталась с наивностью. Ярким примером может быть пушкинская Татьяна, которая,
Воображаясь героинейСвоих возлюбленных творцов,Кларисой, Юлией, Дельфиной,<…> в тишине лесовOднa с опасной книгой бродит,Она в ней ищет и находитСвой тайный жар, свои мечты (VI, 55).«Себе присвоя / Чужой восторг, чужую грусть», Татьяна и Онегину отводит роль одного из известных ей героев «британской музы». Книжность этих чувств не мешает им быть и искренними, и глубокими.
Главными чертами романтического героя были одиночество, разочарованность, «равнодушие к жизни и к ее наслаждениям», «преждевременная старость души», которые сделались «отличительными чертами молодежи 19-го века» (XIII, 52), как писал Пушкин В. П. Горчакову. Романтический герой всегда в пути, его мир – это дорога. За спиной у него покинутая родина, ставшая для него тюрьмой. Все связи с родным краем оборваны: в любви он встретил предательство, в дружбе – яд клеветы:
В друзьях обман, в любви разувереньеИ ад во всем, чем сердце дорожит…(А. А. Дельвиг. Вдохновение. 1820)Но и на чужбине скиталец не останавливается. Всякая остановка для него насильственна. Задерживается ли он на месте оттого, что попадает в плен к диким, но вольнолюбивым жителям экзотических стран, или его привязывает к месту сердечное влечение, тюрьма или счастье для него в равной мере – неволя. Он бежит из тюрьмы или порывает с любовью ради того, чтобы продолжать свои гордые и одинокие скитания.
«Преждевременная старость души» имеет два различных скрытых мотива (часто они совмещаются). Она может быть вызвана мертвящим действием рабства, царящего на родине беглеца. В этом случае сюжет обретает политическую окраску, и попавший в плен к «дикарям» герой лишь меняет один вид рабства на другой:
И ужасен ли обмен?Дома – цепи! вчуже – плен!(А. С. Грибоедов. Хищники на Чегеме. 1825)Однако возможен и другой мотив: на далекой родине беглец оставил тайную, неразделенную – порой преступную – любовь. Любовь эта лишена надежды. Беглец вытравил ее из сердца, но сердце его угасло для любви, и он не может ответить на младенчески свежее чувство «дикой девы». Возникает миф о неразделенной, тайной любви.
Такова была, в общих чертах, мифология романтической личности. Как мы увидим, Пушкин был весьма далек от рабского копирования ее схем. Однако он учитывал, что романтизм представляет собой факт общего культурного сознания эпохи и читатель смотрит на него, человека и поэта, именно сквозь такую призму.
Вступая с этими – еще новыми – культурными представлениями в своеобразную игру, Пушкин частично под их влиянием стилизовал собственное поведение, частично же обаянием и авторитетом своей личности влиял на читательское представление о человеческом облике поэта.
В середине мая Пушкин проехал через Киев. Здесь он встретился с рядом петербургских знакомых, в частности с семьей известного генерала, героя 1812 г. Николая Николаевича Раевского. С Раевским Пушкин познакомился, видимо, через Жуковского, а с его сыном, Николаем Николаевичем «младшим», дружески сошелся еще в Петербурге. 17 мая он прибыл в Екатеринослав, место своей новой службы.
Службы, собственно говоря, не было. Инзов встретил его ласково и уже 21 мая послал в Петербург благоприятный отзыв о Пушкине. Вскоре поэт, купаясь в Днепре, серьезно простудился. Больного, его подобрали проезжающие через Екатеринослав по пути на Кавказ Раевские. В письме брату от 24 сентября 1820 г. Пушкин так описал это знаменательное для него путешествие: «Инзов благословил меня на счастливый путь – я лег в коляску больной; через неделю вылечился. 2 месяца жил я на Кавказе; воды мне были очень нужны и черезвычайно помогли, особенно серные горячие. Впрочем, купался в теплых кисло-серных, в железных и в кислых холодных. Все эти целебные ключи находятся не в дальнем расстояньи друг от друга, в последних отраслях Кавказских гор. Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видал великолепную цепь этих гор; ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и недвижными; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной. <…> Видел я берега Кубани и сторожевые станицы – любовался нашими казаками. Вечно верьхом; вечно готовы драться; в вечной предосторожности! Ехал в виду неприязненных полей свободных, горских народов. Вокруг нас ехали 60 казаков, за нами тащилась заряженная пушка, с зажженным фитилем. <…> …Морем отправились мы мимо полуденных берегов Тавриды, в Юрзуф, где находилось семейство Раевского. Ночью на корабле написал я Элегию, которую тебе посылаю; отошли ее Гречу без подписи. Корабль плыл перед горами, покрытыми тополами, виноградом, лаврами и кипарисами; везде мелькали татарские селения; он остановился в виду Юрзуфа. Там прожил я три недели. Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посереди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою; снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12 г.; человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Старший сын его будет более нежели известен. Все его дочери – прелесть, старшая – женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался – счастливое, полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение – горы, сады, море; друг мой, любимая моя надежда увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского» (XIII, 17–19).
Ночью 19 августа 1820 г. Пушкин с Раевским прибыл на военном бриге «Мингрелия» в Гурзуф. В дороге, на палубе, он написал элегию «Погасло дневное светило…», ознаменовавшую начало нового периода в его поэзии. В Гурзуфе он пробыл до начала сентября, «купался в море и объедался виноградом» (XIII, 251), писал не дошедшее до нас сочинение «Замечания о донских и черноморских казаках», несколько элегий и начал работу над «Кавказским пленником». Здесь он открыл для себя двух новых поэтов – А. Шенье и Байрона, начал систематически изучать английский язык.
В начале сентября Пушкин в обществе Н. Н. Раевского-старшего и Н. Н. Раевского-младшего верхом покинул Гурзуф. Они проехали через Алупку, Симеиз, Севастополь и Бахчисарай, где осматривали ханский дворец, затем направились в Симферополь. В середине сентября Пушкин оставил Крым и через Одессу направился в Кишинев, куда в это время перенес свою резиденцию Инзов.
Короткий отдых, который судьба дала Пушкину, закончился. Кишинев не был спокойным захолустьем – он лежал на перекрестке важнейших политических и военных конфликтов эпохи. Жизнь в Кишиневе ставила трудные вопросы и требовала ответов. Во многом она возвращала Пушкина к проблемам петербургского периода. Но сам поэт уже был другим.
Пушкин пробыл в Кишиневе, с отлучками и отъездами, с 21 сентября 1820 г. по 2 июля 1823 г. Здесь он пережил надежды, связанные с греческим восстанием, и разгром его, вдохнул воздух находящегося «перед битвой» кружка Орлова и был свидетелем уничтожения этого кружка, так и не дождавшегося открытого сражения с самодержавием. Здесь поэт пережил минуты подъема и горьких разочарований.
Пребывание в Крыму, несмотря на всю его краткость (всего несколько недель), сыграло огромную роль в жизни и поэзии Пушкина; к этому времени восходят многие творческие замыслы и впечатления, которые потом разрабатывались и трансформировались в сознании поэта. Но с этим же временем связаны и исключительно важные жизненные впечатления. Образ Крыма вошел в пушкинское представление о счастье. 2 февраля 1830 г. он писал К. А. Собаньской: «Среди моих мрачных сожалений меня прельщает и оживляет одна лишь мысль о том, что когда-нибудь у меня будет клочок земли в Крыму» (XIV, 63 и 399).
Пейзажи Кавказа и Крыма одели живой плотью романтические представления. То, что в Европе входило в литературную моду, «ориенталиа» («восточность»), быстро превращаясь в систему литературных штампов, ожило перед глазами поэта как бытовая реальность. Романтизм, казавшийся в Петербурге экзотической сказкой, на Кавказе обернулся правдой и жизнью. Это толкало к тому, чтобы и в себе самом искать черты романтического героя. Романтическое мироощущение позволяло слить душевный мир и окружающий пейзаж в единую, имеющую общий смысл картину.