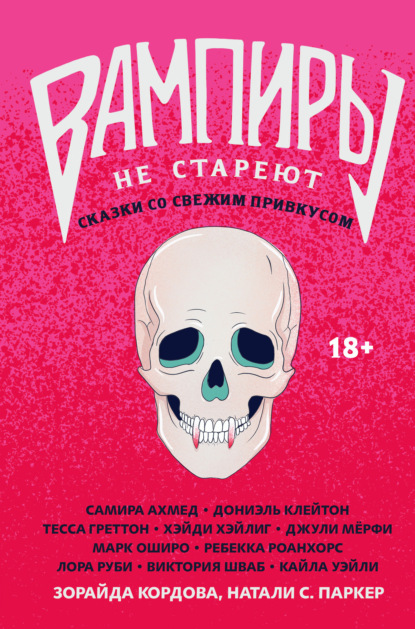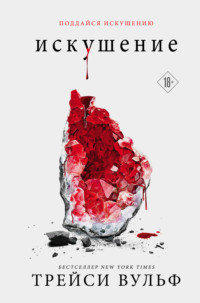Полная версия
Шарм
– Какого хрена ты делаешь? – наконец выдавливаю я из себя.
На этот раз взор, который он устремляет на меня, так невинен, что вокруг его головы разве что не хватает нимба.
– Я упражняюсь в навыках подражания птичьим крикам.
– В чем?
– Я орнитолог-любитель. Поскольку мы заперты здесь уже много недель, у меня не было возможности наблюдать за птицами, но у меня нет причин забрасывать упражнения в подражании их крикам.
– Да ладно. – Я встаю с дивана и ставлю дневник на полку. – Ни за что не поверю, что этот жуткий звук, от которого по телу бегут мурашки, может издавать птица.
– Его точно издает птица, – сообщает мне он, затем издает этот странный кудахчущий звук еще раз. – Австралийская кукабурра. Это самая большая птица в семействе зимородков, несмотря на то что весит всего лишь фунт или около того. Средняя продолжительность ее жизни составляет пятнадцать лет, и она высиживает яйцо от двадцати до двадцати двух дней.
Он тараторит эти факты, как будто только что думал о них – или как будто он их только что придумал. Я думаю, что действительности соответствует последнее из этих двух предположений, но, поскольку с тех пор, как мы оказались здесь два месяца назад, я не могу ничего погуглить, надо думать, правды я не узнаю.
– Это… потрясающе, – отвечаю я тоном, по которому ясно, что птицы не моя епархия. В обычных обстоятельствах я добавила бы еще несколько колких реплик, но последняя прочтенная дневниковая запись еще слишком свежа в моей памяти. И мне трудно язвить, разговаривая с человеком, который столько страдал.
Поэтому вместо того, чтобы сказать что-нибудь ехидное, я просто улыбаюсь ему и иду на кухню. Но успеваю сделать только пару шагов, прежде чем Хадсон издает еще один мерзкий звук – хотя и совершенно не похожий на предыдущий.
Этот крик звучит как жуткое пронзительное «ууууууу», от которого у меня по спине бегут мурашки.
Но я решаю не отвлекаться и иду дальше. Хадсон, к сожалению, воспринимает это как поощрение.
– Ууууууууууу. Уууууууууууу. Уууууууууууу.
Этот звук напоминает царапанье ногтями по стеклу, но я изо всех сил стараюсь не обращать на него внимания, пока он не повторяет свои завывания где-то в пятнадцатый раз.
– Понятно. Ну и какая же птица издает такие крики? – спрашиваю я, беря из холодильника банку «Доктора Пеппера». Если мне придется мириться с этим еще какое-то время – один черт знает какое, – мне точно понадобится что-то покрепче воды.
– Вообще-то это полярная гагара. Некоторые считают, что ее крик действует расслабляюще.
Он снова кричит:
– Ууууууууууу.
– Как здорово, – отзываюсь я, готовя теплый сэндвич с сыром и начав считать от ста до нуля. Наверняка к тому времени ему надоест издавать эти жуткие крики.
И действительно, когда я дохожу до семидесяти пяти, он перестает повторять «ууууууууу». Я испускаю вздох облегчения, выпуская воздух, скопившийся в легких, но тут же едва не подпрыгиваю, когда за криком гагары следует низкое карканье, от которого напрягается каждый нерв в моем теле.
«Не реагируй», – говорю я себе.
– Каааааааарр.
«Если ему удастся вывести тебя из себя, это только раззадорит его. Ты же понимаешь, что он делает это от скуки».
– Кааааааааааааааааааааааарр.
«Не реагируй, не реагируй, не реагируй».
– Каааар… – Он закашливается, и мне начинает казаться, что на этом все завершится. Но нет, он полон решимости продолжать и, как только ему удается унять свой кашель, берется за старое.
– Кааааааааааааааааааааарр!
– Ладно, Хадсон, я понимаю, что ты хочешь сказать. Господи. Тебе незачем врать, что какая-то птица может издавать такие звуки, просто чтобы позлить меня.
– Ничего я не вру, – отвечает он с видом оскорбленной невинности. – Это песня южноамериканского тукана…
– Ты все это выдумал, – говорю я ему. – Ни одна птица не может издавать звуки, похожие одновременно на вопли умирающей лягушки и рассерженной свиньи.
– А вот тукан может, – отвечает он, и у него опять делается такой невинный вид, что становится сложно верить, что он вешает мне лапшу на уши. Но я заперта в этой берлоге с ним слишком долго и сразу понимаю, что он просто пытается вывести меня из себя. И я убеждаюсь в этом, когда он добавляет:
– Я знаю, что это звук на любителя, но некоторые орнитологи считают, что это самый красивый из всех птичьих криков…
– Что за брехня! – взрываюсь я. – Я мирилась и с кукабуррой, и с гагарой, но я ни за что не смирюсь с поддельными воплями этого тукана…
– Ничего они не поддельные, – вставляет он.
– Поддельные, неподдельные, мне насрать. Прекрати эту свою хренотень с птичьими криками.
– Хорошо.
– И это все? – с подозрением спрашиваю я. – Так просто?
– Ну конечно, если тебя это так раздражает… – Он пожимает плечами и улыбается лучезарной улыбкой.
Гадая о том, не заключим ли мы перемирие после восьми недель непрестанных боевых действий, я улыбаюсь ему в ответ. Затем подношу к губам банку с «Доктором Пеппером» и опять поворачиваюсь к плите.
– Каааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааарр! – вопит Хадсон во все горло.
Я давлюсь «Доктором Пеппером», брызги разлетаются в разные стороны, и следующие две минуты я трачу на то, чтобы выкашлять газировку из легких.
К черту такую жизнь. К черту Хадсона Вегу.
Глава 27
Устное сообщение
– Хадсон –– Тебе обязательно так долго торчать в душе? – рычит Грейс, когда я выхожу из ванной.
Я смотрю на нее нарочито спокойно:
– Похоже, кто-то встал не с той ноги.
– Я встала в отличном настроении – спасибо за беспокойство. – Она проходит мимо, бросив на меня убийственный взгляд. – Но я уже час жду, когда мне можно будет пописать.
Это хорошо. Приятно сознавать, что время, которое я провел в ванной, прошло не зря. Но отвечаю я только одно:
– Извини.
– Твои извинения неискренни. Иначе ты бы не проделывал это каждый день. – Она сердито оглядывает меня с головы до ног: – И сделай милость, оденься, пока я буду в ванной. У тебя дурацкий вид.
– Я одет, – отвечаю я, изобразив недоумение. – И с какой стати у меня может быть дурацкий вид?
– На тебе спортивные штаны, а не настоящая одежда. Это не одно и то же. – И, словно для того, чтобы подчеркнуть свои слова, она захлопывает дверь ванной.
Как только дверь за ней закрывается, я сбрасываю с себя личину невинности и недоумения. Я носил ее так долго, что боюсь, как бы она не приклеилась к моему лицу. И что прикажете тогда делать? Трудно отпугивать людей, если ты выглядишь как чертов бойскаут.
Но я обнаружил, что если не считать птичьих криков – принимать невинный вид, пока я подкладываю ей очередную свинью, это наилучший способ произвести на нее впечатление.
А мне чертовски хочется впечатлить Грейс.
Должен признать, выдержки у нее куда больше, чем я думал. Я был уверен, что мы выйдем отсюда уже в тот первый вечер, когда я клеился к ней и одновременно выводил ее из себя.
Но вместо этого мы торчим здесь уже полгода, самые утомительные полгода в моей жизни, и конца этому не видно. Именно поэтому я в последнее время начал монополизировать ванную, торча в ней по нескольку часов. Наверняка скоро это ей надоест, ведь так?
Но подойдя к шкафу для одежды – который находится на моей стороне, – я обнаруживаю, что я не единственный, кто умеет подкладывать свинью. Потому что, пока я был в ванной, Грейс перевернула мои вещи вверх дном.
Под этим я подразумеваю, что она устроила в моей половине полнейший беспорядок. Неудивительно, что она брюзжала по поводу отсутствия рубашки, когда я вышел из ванной. Она хотела поторопить меня, чтобы я заглянул сюда и увидел все это.
Мои рубашки и брюки, которые обычно висят на вешалках, были кое-как свалены в выдвижных ящиках.
А пижамы и трусы висели на вешалках.
Мое постельное белье было стянуто с кровати и засунуто под нее.
Какого хрена?
И это еще не все, понимаю я, когда подхожу к своей коллекции виниловых пластинок. Они по-прежнему стоят на своих полках, но Грейс переставила их. Теперь нет никакого деления по жанрам, а внутри секций они не стоят в алфавитном порядке по первой букве фамилии исполнителя. Все перепутано. Они расставлены как попало.
Она уничтожила всю мою систему.
Я поворачиваюсь к двери ванной и зло смотрю на нее. Это какое-то запредельное вероломство. И на этот раз она не отделается банкой «Доктора Пеппера», которую я тогда потряс, чтобы она взорвалась в ее руке (должен признать, что это была особенно коварная уловка, и я до сих пор помню, как газировка текла по ее лицу).
Дверь ванной открывается под моим сердитым взглядом, и тут до меня доходит, почему Грейс приняла душ вчера вечером – чтобы иметь возможность увидеть мою реакцию.
Она за это заплатит. И еще как. Как только я придумаю, что с ней сделать.
Но мои мысли не отражаются на лице, оно остается совершенно невозмутимым, пока она идет из ванной со злорадным блеском в глазах. Я напускаю на себя вид полнейшей невинности, который мне уже осточертел, и говорю:
– Кто-то повозился с моими вещами, пока я был в душе.
– И тебе нравится то, что получилось? – спрашивает она с таким же невинным видом – широко раскрытые глаза, лучезарная улыбка. Но я сам изобрел эту игру, и никто меня не переплюнет. Никогда.
– Я просто в восторге. Эта система расстановки уже начинала мне надоедать. – Я давлюсь словами, но каким-то образом все-таки ухитряюсь их произнести: – А теперь всякий раз, когда я буду брать в руки альбом, он будет для меня сюрпризом.
– Именно об этом я и думала, – соглашается она с энтузиазмом. – Я знала, что тебе это понравится.
– Да, очень. Я глубоко благодарен.
Затем, почувствовав, что у меня начал дергаться глаз, я поворачиваюсь и иду обратно в зону спальни. Хоть бы она успокоилась на этом и больше не выносила мне мозг.
Но мы с Грейс заперты здесь уже несколько месяцев, и снаружи летает этот чертов дракон, описывая круги и врезаясь то в стены, то в крышу. Мы уже испробовали друг на друге все возможные пранки, так что она, разумеется, не успокоится.
Как и я.
– А тебе нравится то, что я сделала с твоим гардеробом? – медовым голосом спрашивает она.
– Я в восторге, – отвечаю я сквозь зубы. – Повесить мои трусы на вешалки – это гениально.
– Мне тоже так кажется. Я имею в виду, что такое яркое белье надо держать на видном месте, там, где его можно видеть каждый день.
– Я вижу его каждый день, когда выдвигаю ящики. – Я беру одну из пар. – Но так тоже неплохо.
Взяв эти чертовы боксеры в руки, я замечаю, что Грейс не просто повесила их на вешалку. Сначала я так ошарашен, что молча смотрю на пару в моих руках. Затем начинаю снимать с вешалок все остальные боксеры и осматривать их. И, конечно же, она испортила их все.
Она изрисовала черным маркером каждую пару боксеров-брифов «Версаче», которая у меня есть.
К изображениям лиц она пририсовала усы, а к нескольким добавила еще рожки, как у черта. А на тех, где нет лиц, она начертила зигзагообразные молнии и звезды и исписала их типичными восклицаниями из комиксов: «Бам», «Бух» и «Шлеп».
Меня особенно оскорбляет вид пары, в центре которой красуется надпись: «шлеп».
– Это же были трусы «Версаче», – говорю я ей, и, как бы я ни старался сдерживаться, в моем голосе звучит ужас. Каким надо быть чудовищем, чтобы сотворить такое?
– Это и сейчас трусы «Версаче», – бодро отвечает она.
И, честное слово, будь я вампиром иного рода, я бы уже разодрал ей горло. Однако вместо этого я просто складываю трусы и бросаю их в стопку на кровати.
Ничего, мы еще посмотрим, кто кого.
Глава 28
Мокро быть мной
– Грейс –У Хадсона забавное выражение на лице. Жаль, что у меня нет при себе телефона, потому что я бы с удовольствием сделала фотку и сохранила ее для потомков. Похоже, его привязанность к этим трусам сильнее, чем я думала.
Может, подразнить его еще? Видит бог, сам он обожает дразнить меня, когда преимущество на его стороне… Тут он поворачивается, и до меня доходит, что я попала.
И еще как. И мне некуда бежать.
Его яркие синие глаза хитро блестят, губы изогнуты в ухмылке, которая всегда означает, что он что-то задумал. Больше того, кончики его клыков угрожающе блестят.
Полгода назад я бы подумала, что мне конец, теперь же я не совсем уверена в этом.
Он делает шаг в мою сторону, и на секунду я бросаю взгляд на дверь. Впервые с тех пор, как мы попали сюда, я всерьез подумываю о том, чтобы испытать удачу с драконом. Он, конечно, прикончит меня, но скорее всего, это произойдет быстро.
А вот если я останусь с Хадсоном, мне грозит нечто похуже, если судить по его лицу.
– Даже не думай, – рычит он, и он прав. Я знаю, что он прав. Но это значит, что есть только одно место, где я могла бы спрятаться.
– Погоди, – говорю я, вытянув руку, чтобы остановить его. – Мы можем об этом поговорить.
– О, именно это я и намерен сделать, – отвечает он, делая еще один шаг ко мне – демонстративный и неспешный.
– Это была шутка. Я просто пыталась… – Черт побери. Я сломя голову бросаюсь к двери ванной.
Еще семь шагов, еще четыре шага, еще два…
Хадсон врезается в меня сзади, и от этого толчка я буквально влетаю в дверь. Я начинаю падать – по той же причине, – но в последнюю секунду он подхватывает меня и поднимает на руки.
Когда он делает шаг в сторону душа, я не знаю, смеяться мне или кричать. Когда он протягивает руку в душевую кабинку и включает воду, я делаю и то и другое, обхватив его шею и держась за нее изо всех сил.
– О черт, нет, – говорит он, и от звучащего в его голосе возмущения британский акцент становится еще больше заметным и больше чопорным, чем обычно. – Кричи сколько влезет, но после того, как ты испортила все мои боксеры, тебе этого не избежать. Ты окажешься в воде.
– Они не испорчены! – пытаюсь сказать ему я между взрывами хохота. – Я разрисовала их карандашом для глаз. Ты можешь их отстирать.
– Нет, это ты можешь их отстирать. После того как промокнешь до нитки. – Он опять пытается отлепить меня от себя и толкнуть под ледяную воду. И опять я прижимаюсь к нему, обхватив его руками и ногами и держась изо всех сил.
– Не делай этого, Хадсон, – визжу я, продолжая смеяться, пока он пытается отцепить меня от себя. – Не надо! Извини! Извини!
– Черт возьми, – чуть слышно бормочет он и заходит в душевую кабинку вместе со мной.
Когда меня обдает ледяная вода, я истошно ору, а он начинает бормотать ругательства – тихие и злые.
– Я же говорила тебе, чтобы ты этого не делал! – говорю я, переведя дух после смеха, от которого у меня болят бока.
– А я сказал, что тебе этого не избежать и ты окажешься в воде, – отвечает он и шмыгает носом. – Любой нормальный человек принял бы это заслуженное наказание вместо того, чтобы вопить, как мартовские коты, – такие вопли и мертвого из могилы поднимут.
– Я не вопила как кот! Собственно говоря…
И в это мгновение я вдруг осознаю, что Хадсон все еще держит меня на руках. И мы с ним оба мокрые, а потому я ощущаю его близость куда острее, чем пару минут назад. И он тоже может ощущать – и видеть – меня всю.
Видимо, он тоже это осознает, потому что, когда я отстраняюсь, он отпускает меня – вернее, аккуратно опускает на пол.
– Ты в порядке? – спрашивает он, и, хотя он немного отстранился, он все так же обнимает меня за талию, поддерживая.
И внезапно выражение его глаз делается таким, что мне уже не хочется бежать. Мне хочется остаться рядом.
От этой мысли меня охватывает паника, у меня обрывается сердце, в ушах шумит кровь.
– Я в порядке, – отвечаю я и отшатываюсь от него так резко, что вылетаю из душевой кабинки и едва не падаю на задницу.
Он опять подхватывает меня, на этот раз очень нежно, и снова ставит на ноги.
– Отпусти меня! – кричу я, и, когда я отталкиваю его, он в самом деле отпускает меня.
Глава 29
Как вы прощаетесь?
– Хадсон –– Как ты?
Я произношу эти слова нехотя, поскольку сейчас мы с ней не в лучших отношениях. Не то чтобы между нами всегда все было гладко, но после инцидента в душе прошлой весной дела пошли особенно скверно.
С того утра Грейс держит дистанцию. Как и я сам. И это сделало последние несколько месяцев, во время которых я приводил в порядок коллекцию виниловых дисков, учил новые птичьи крики и метал топоры, чрезвычайно скучными. Раз в месяц мы садимся на противоположных концах дивана и вместе смотрим один из моих DVD, пока она жует попкорн. И это самый лучший день месяца.
Второй хайлайт моей рутины, которая тянется как пустыня между киновечерами, это ежедневный семичасовой будильник на ее телефоне, после которого мы – хотите верьте, хотите нет – устраиваем состязание по прыжкам «ноги вместе-ноги врозь». Чаще всего я побеждаю, но время от времени мне нравится что-то менять, и я даю ей шанс.
Но это не похоже на злость – не похоже, что она зла на меня. Это что-то другое.
– Грейс? – говорю я, когда она не отвечает. Но она не отрывает глаз от книги. Собственно говоря, она, по-моему, вообще не слышит меня.
Но я все равно жду еще несколько секунд на тот случай, если я ошибаюсь.
Когда в тишине проходит минута, я прочищаю горло. Громко. И опять спрашиваю:
– Грейс, как ты?
Она молчит – что, я в этом уверен, само по себе является ответом.
Что-то с ней не так, не так весь этот день, это видно по тому, как она ведет себя. Как будто боится, что разобьется на куски, если сделает какое-то резкое движение. И, может, так и произойдет. Я не знаю.
Я видел многие грани натуры Грейс за этот год, что мы были заперты вместе.
Я видел сердитую Грейс, которая полна решимости заставить меня страдать.
Я видел напористую Грейс, которая не отступает ни на дюйм.
Я видел проказливую Грейс, которая любит создавать хаос и дискомфорт, причем максимально.
Я видел Грейс, раздираемую противоречиями и не знающую, чего она хочет и почему.
Я привык ко всем этим Грейс и готов принять любую из них. Но это… это Грустная Грейс, и я не понимаю, что с ней делать, не понимаю совсем. И совершенно не знаю, как ей помочь.
Но наверняка нельзя позволить ей вариться в своей печали. Только не на этот раз.
Поэтому вместо того, чтобы отойти, я впервые за несколько месяцев без разрешения перешагиваю через ее дурацкую клейкую ленту (если не считать своих походов к холодильнику, чтобы взять бутылку воды) и сажусь на диван рядом с ней. Она не отталкивает меня и не говорит мне отвалить, и это окончательно убеждает меня в том, что с ней что-то не так.
Это оставляет мне только один выход, только один способ ей помочь. Я проникаю в ее сознание и тайком просматриваю воспоминание на переднем плане.
* * *– Я хочу увидеть детенышей тюленей, папа! Давай пойдем посмотрим на них!
Маленькая Грейс – лет шести или семи – идет по улице вдоль пляжа в белом платьице в красный горошек и с оборками. Она держит за руку мужчину лет тридцати пяти, тоже при параде.
– Мы не можем их увидеть, Грейс. В это время года их тут нет.
– Как это? Ведь их детеныши рождаются здесь, а значит, они должны здесь жить. – У Грейс делается такой расстроенный вид, что на секунду мне кажется, что сейчас она будет топать ногой, пока ее отец не отведет ее посмотреть на тюленей.
Но ее отец только наклоняется и щекочет ее, пока она не начинает смеяться радостным смехом, который наполняет все это воспоминание и от которого я чувствую стеснение в груди.
– Их жизнь устроена не так, – объясняет он ей, когда она наконец перестает хихикать. – Всему свое время, и в такое время года они живут в других местах, где вода теплее.
– Потому что сейчас зима и скоро здесь будет холодно? – спрашивает Грейс.
– Вот именно. Ведь у них нет домов, где они могли бы погреться, как это делаем мы. Поэтому им надо уплывать туда, где вода достаточно теплая, чтобы они могли чувствовать себя уютно.
Похоже, Грейс ненадолго задумывается над этим, пока они продолжают шагать.
– А когда они вернутся сюда, они останутся здесь на какое-то время? – спрашивает она. – И родят здесь детенышей?
– Да, конечно, – отвечает ее отец.
– И тогда ты поведешь меня, чтобы посмотреть на них? Но мы не станем подходить слишком близко. Тюленям нужно пространство, чтобы чувствовать себя в безопасности. – Она говорит это так, будто ей твердили это тысячу раз. Наверное, так и было – ведь, как я уже понял, она очень упряма, так что такие вещи ей надо повторять по несколько раз.
– Само собой. Мне тоже очень нравится смотреть на детенышей.
– Мне не терпится их увидеть! – Она хлопает в ладоши и смотрит на отца огромными карими глазами. – Сколько времени мне придется ждать, прежде чем я смогу их увидеть?
Он улыбается и щелкает ее по носу:
– Пять или шесть месяцев, моя дорогая. Они появятся здесь в конце марта или начале апреля.
– Апрель приходит после марта! – говорит она нараспев. – А март следует за февралем, а февраль за январем.
Ее отец смеется во все горло, качая головой с таким видом, будто она самое забавное и прелестное существо, которое он когда-либо видел. И, возможно, так и есть. Родители ведут себя странно, когда речь заходит об их детях. К моим родителям это, разумеется, не относится, но большинство родителей именно таковы.
– Ты совершенно права. Месяцы в самом деле следуют друг за другом в таком порядке.
– Но это же так долго. Это займет целую вечность. – У нее очень разочарованный вид.
– Ты сама увидишь, как быстро пролетает вечность, если не сидишь без дела, – отвечает ее отец. – Ты даже не заметишь, как пробежит время и детеныши появятся здесь.
– И ты поведешь меня смотреть на них? – Она вглядывается в его лицо, будто игрок в покер, рассчитывающий понять по лицу соперника, блефует он или нет.
Он снова смеется:
– Да, я тебе обещаю. В апреле я приведу тебя посмотреть на тюленей. – Он протягивает ей руку: – Заметано?
Она на секунду задумывается, затем пожимает его руку:
– Заметано.
Она широко улыбается, и я впервые замечаю, что у нее не хватает двух передних зубов. Она выглядит такой милой и, используя эту черту в своих интересах, продолжает:
– А можно мы пойдем туда сейчас, папа? Я знаю, что тюленей там нет, но мне хочется посмотреть на приливные заводи.
– Не сегодня, солнышко. Я приведу тебя туда на уик-энд, и ты сможешь посмотреть на заводи. А сейчас нам надо зайти в магазин, как нас просила мама. Ты не забыла? Она просила купить сливок, они нужны для тыквенного пирога.
Грейс хлопает в ладоши:
– Я люблю тыквенный пирог!
– Я тоже, дорогая, я тоже. – Отец ерошит ей волосы: – Предлагаю пробежать наперегонки вон до того магазина на углу. Кто победит, тот получит самый большой кусок пирога.
Грейс картинно закатывает глаза – теперь я хорошо знаком с этой ее привычкой:
– Ты всегда получаешь самый большой кусок пирога.
– Разве? – Ее отец делает вид, что он удивлен. – Наверное, это потому, что я всегда побеждаю.
– Только не на этот раз! – Грейс пускается бежать так быстро, как ее только могут нести ее короткие детские ножки.
Отец мигом догоняет ее, поднимает и сажает себе на плечи.
– Так победим мы оба, – говорит он, и они пригибаются, входя в магазин.
– Ух ты! Значит, теперь нам достанется весь пирог?
– А тебе не кажется, что нам надо оставить маленький кусочек для мамы? – Они идут по проходам мини-маркета, направляясь к холодильнику для молочных продуктов.
– Совсем маленький кусочек? – спрашивает она, глядя на отца с подозрением.
Он подавляет смех:
– Да, совсем.
– Ну ладно, думаю, это можно устроить. – Она говорит это так неохотно, что и ее отец, и я покатываемся от хохота.
– Я люблю тебя, солнышко.
– Я тоже люблю тебя, папа, – ласково отвечает она. – Ух ты, можно мне жвачку?
Ее отец качает головой и, взяв пачку жвачки, протягивает ее ей:
– Дай тебе палец, и ты откусишь всю руку, верно, моя девочка?
– Мое счастливое число – это три, – замечает она, вертя пачку жвачки в руках.
– Не сомневаюсь, – отвечает он. – Не сомневаюсь.
Глава 30
Непроще простого
– Хадсон –Сегодня День благодарения! Это доходит до меня, когда я выхожу из воспоминания Грейс. Когда мы только-только обнаружили, что заперты здесь, Грейс выдвинула один из ящиков кухонного буфета и достала из него календарь. И, когда утром она отмечала в нем очередной день, это служило для меня сигналом того, что она готова начать ежедневную тренировку по прыжкам. Как же я мог не заметить, какой сегодня день?