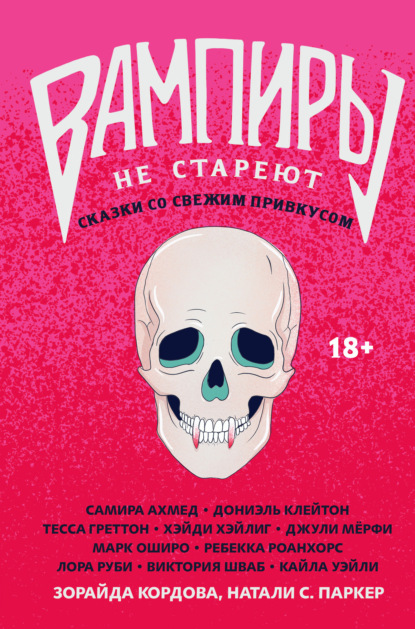Полная версия
Шарм
– Я тоже, – пылко заверяет ее Хадсон. – Я никогда его не пробовал, и мне очень хочется отведать.
Что-то смутно беспокоит меня, ощущение какой-то подмены. Но прежде чем я успеваю понять, в чем дело, мисс Велма берет руку Хадсона и пожимает ее.
– Надеюсь, когда ты будешь есть его, то почувствуешь всю ту любовь, которую я вложила в него.
Какое-то время Хадсон ничего не говорит, просто смотрит на ее старую руку, сжимающую его кисть, сильную и молодую. Когда молчание слишком затягивается, он прочищает горло и шепчет:
– Спасибо.
– Всегда пожалуйста, мой дорогой. – Она снова пожимает ему руку, прежде чем нехотя отпустить ее. – А теперь идите на пляж. Передавали, что сегодня будет дождь, так что воспользуйтесь хорошей погодой, пока у вас есть такой шанс.
– Дождь? – повторяю я, но мисс Велма уже удалилась в подсобку.
– Пойдем? – говорит Хадсон и, толкнув дверь, отступает в сторону, чтобы пропустить меня вперед, так что у меня не остается другого выхода, кроме как взять коробку с печеньем и выйти на улицу.
Глянув на небо, я понимаю, что мисс Велма была права. За то недолгое время, что мы находились в магазинчике, небо из ярко-голубого стало зловеще серым. Солнце скрылось, и мир вокруг меня кажется теперь темным и мрачным, таким, каким Сан-Диего никогда не казался мне прежде.
Мне это не нравится. Совсем. И когда Хадсон выходит на улицу вслед за мной, я невольно начинаю гадать, не знамение ли это.
Но если да, то о чем оно предупреждает меня?
Глава 17
Такие вот дела
Пока мы идем к пляжу, ветер усиливается. Теперь океан находится прямо перед нами, и я вижу, как вздымаются волны, как с каждой секундой они разбиваются о берег все громче и чаще.
У меня сжимается сердце, натягиваются нервы, но я делаю глубокий вдох и пытаюсь не обращать на это внимания. Хадсон спрашивает:
– А что случилось с Лили?
Я вздыхаю:
– Она умерла от рака полтора года назад. Ей было девять лет, и больше всего на свете она любила овсяное печенье с изюмом, которое печет мисс Велма. Когда она стала совсем плоха, она соглашалась есть только их.
Хадсон смотрит на море, и на его лице ходят желваки.
– Не знаю, удивительно это или ужасно.
– Да. – Я издаю слабый смешок. – Я тоже не знаю, но думаю, что, скорее, удивительно, потому что она была удивительной девочкой. Всегда оставалась веселой, как бы плохо ей ни было от химиотерапии и какую бы она ни испытывала боль.
– Ты знала ее? – На его лице написано удивление.
– Только благодаря тому, что ее мать очень часто приводила ее в этот магазин. Они садились за угловой столик, и Лили раскрашивала свои рисунки, пока мисс Велма пекла для нее партию овсяного печенья с изюмом. – Я невольно улыбаюсь, вспомнив, как старательно Лили раскрашивала.
– Когда я вырасту, Грейс, я стану художницей – такой же, как те, чьи картины висят в галерее мистера Родни.
– Не сомневаюсь, Лили. Ты рисуешь самые потрясающие цветы, которые я когда-либо видела.
– Это потому, что я сама цветок, я лилия. Самый красивый цветок. Так говорит мама.
– Твоя мама абсолютно права.
Мне вспоминается отрывок одного из наших последних разговоров, и я с усилием сглатываю. Хадсон не спрашивает меня, о чем я думаю, но, наверное, это и так очевидно. Он перекладывает коробку с печеньем в ту руку, которая дальше от меня, и немного ускоряет шаг.
– Эй! Нам надо съесть по печенью прежде, чем мы дойдем до воды, – говорю я ему, стараясь не отставать, хотя мои ноги и короче. – Такова традиция.
– Я подумал, что тебе не захочется их есть после того, что ты мне рассказала, – отвечает он. Должно быть, он замечает, что мне трудно не отставать от него, потому что снова начинает идти медленнее.
– Ты не ошибся, – подтверждаю я. – Но мы должны съесть по печенью.
Он поднимает бровь:
– Традиция есть традиция?
– Вот именно. – Я улыбаюсь ему.
Судя по его виду, ему хочется возразить, но в конечном итоге он просто кивает, а затем открывает коробку с печеньем.
Я беру несколько овсяных печений, лежащих сверху, протягиваю ему одно из них и говорю:
– За Лили.
– За Лили, – повторяет он, и мы откусываем по кусочку.
Я никогда не была любительницей овсяного печенья с изюмом, но все равно съедаю по одному такому каждый раз, когда оказываюсь в магазинчике мисс Велмы. За Лили. За мою мать, которая тоже любила овсяное печенье с изюмом. За моего отца, который их терпеть не мог, но все равно ел, потому что знал, что мама не станет печь для себя одной.
Мне их так не хватает. Это странно – в иные дни я просыпаюсь, и мне начинает казаться, что все не так уж ужасно. Но почему-то получается, что эти дни хуже, чем те, которые начинаются скверно. Потому что в такие дни все поначалу идет нормально, я занимаюсь своими привычными делами, но затем что-то вдруг пробуждает во мне воспоминания, а я к этому не готова.
И тогда я снова чувствую себя раздавленной горем.
Как сейчас, когда оно снова сокрушает меня.
– Эй, что с тобой? – спрашивает Хадсон и протягивает руку, будто желая утешить меня. Или поддержать.
Я инстинктивно отшатываюсь. И напоминаю себе, что, хотя сейчас он и ведет себя мило, это не значит, что он не социопат. Убийца. Чудовище.
– Ничего, я в порядке, – говорю я, прогнав остатки своей печали, потому что не могу позволить себе быть уязвимой. Только не сейчас и не перед ним. – Давай просто съедим печенье.
Чтобы доказать серьезность своего намерения, я откусываю большой кусок овсяного печенья и старательно жую его, делая вид, будто на вкус оно не похоже на опилки.
Хадсон ничего не говорит, а только смотрит на меня серьезными глазами и тоже откусывает кусок печенья.
Несколько секунд он жует, затем его лицо озаряет сияющая улыбка:
– Ого! Это и правда очень вкусно.
– Тебе надо попробовать шоколадное печенье, – замечаю я, наконец заставив себя проглотить печенье, которое я, кажется, жевала целую вечность.
– Непременно, – отзывается он и берет из коробки мое любимое печенье. Он с воодушевлением откусывает его, и его глаза широко раскрываются, когда он ощущает на языке это совершенное сочетание выпечки и шоколада.
– Это…
– Потрясающе, – договариваю я. – Восхитительно. Это само совершенство.
– Точно, – соглашается он. – Все это вместе взятое и еще лучше.
Он улыбается мне прежде, чем откусить еще один кусочек печенья, и сейчас, когда нас обдувает ветер, впервые взъерошив его идеальный помпадур, он выглядит не так, как обычно. Он кажется моложе. Счастливее. Уязвимее.
Возможно, именно поэтому все во мне вдруг замирает, и на краю моего сознания начинают возникать вопросы.
– Погоди, – бормочу я, когда то, что я узнала в Кэтмире, начинает просачиваться сквозь все эти эмоции, которые охватили меня, потому что здесь я дома.
– Как ты можешь есть это печенье? – спрашиваю я. – Как-то раз Джексон съел при мне клубнику и потом сказал, что его тошнило. Как же ты можешь стоять здесь как ни в чем не бывало, съев два огромных печенья?
Хадсон не отвечает. Вместо этого он просто смотрит на меня, и радость уходит из его глаз, сменяясь настороженностью, сути которой я не понимаю.
Но потом до меня вдруг доходит.
– Все это ненастоящее, – шепчу я, и меня захлестывает ужас. – Это просто еще одна уловка, да? Еще один способ, который ты используешь, чтобы…
– Это не уловка, – перебивает меня Хадсон, и его голос звучит странно, почти умоляюще. И, возможно, я бы смогла сосредоточиться на этой детали, если бы магазинчик мисс Велмы не мерцал за нами, как сломавшийся роутер.
На мгновение рев океана в моих ушах становится громче, теперь он так громок, что, кажется, волны вот-вот обрушатся на нас, но, когда я напрягаюсь, готовясь промокнуть, рев стихает, превратившись в ничто.
Как и печенье в моей руке.
Как и мисс Велма.
Как все и вся, за исключением Хадсона и меня.
Хуже того, мы снова оказываемся в темноте. Во всяком случае пока Хадсон не щелкает выключателем и не загорается свет.
Даже до того, как мои глаза успевают привыкнуть к свету, я понимаю, где мы. И наконец осознаю, что произошло.
– Это же было всего лишь воспоминание, да? – спрашиваю я его. Сейчас это не обвинение, а просто констатация факта. – Ты каким-то образом проник в мою голову и украл у меня воспоминание.
– Я не проникал в твою голову, Грейс. И ничего не крал. Ты отдала мне его сама.
Эти слова действуют на меня как спичка, поднесенная к бензину, и по моей коже пробегает огонь, он пронизывает мое тело, наполняет меня всю, так что я уже не чувствую ничего, кроме жгучей ярости.
– Я бы ни за что этого не сделала! – рявкаю я. – Я бы никогда не отдала тебе то, что для меня так ценно.
– Да ну? – Его глаза превращаются в узкие щелки. – Это почему же? Потому что я этого не достоин?
– Потому что ты мой… – Я запинаюсь прежде, чем успеваю произнести слово «враг». Не потому, что это не так, не потому, что он мне не враг (хотя на несколько минут я об этом и забыла), а потому, что это слово звучит старомодно и мелодраматично, а эмоции, бушующие во мне, отнюдь не таковы.
Но, похоже, мне нет нужды произносить это слово, поскольку он и так знает, о чем я думаю. Это написано у него на лице даже до того, как он говорит:
– Я тебе не враг. Мне казалось, что ты уже поняла, что мы в этом вместе.
– Да ну? Вместе? И потому ты считаешь, что нет ничего страшного в том, чтобы копаться в моем телефоне и красть глубоко личные воспоминания из моей головы? Потому что мы в этом вместе?
– Я ничего не крал из твоей головы, – повторяет он.
– Я вообще не понимаю, о чем ты.
– В самом деле? – Он вскидывает бровь, прислоняясь плечом к стене и сложив руки на груди. – Потому что сам я уверен, что все ты понимаешь.
– Это абсурд, – говорю я. – Как я могла… – Но тут я опять запинаюсь, потому что фрагменты, рассыпанные во мне, начинают мало-помалу складываться в единую картину, единственную, которая имеет смысл.
Меня охватывает ужас.
– Ты можешь видеть мои воспоминания, потому что все это нереально. Ты можешь видеть то, что находится в моей голове, потому что на самом деле все это, – я обвожу комнату взмахом руки, – не существует.
Но Хадсон качает головой:
– Это реально, Грейс. Просто не в том смысле, к которому ты привыкла.
Но я уже провалилась в кроличью нору и не могу сосредоточиться на чем-то из того, что он говорит. Я слишком глубоко погружена в личный кошмар, чтобы подумать о чем-то кроме правды, которая сияет внутри меня, как свет путеводного маяка.
Я знаю, что он говорил мне это и прежде, говорил несколько раз, но тогда я ему не верила. С какой стати? Но теперь я не могу не видеть, что это правда, что так оно и есть. И мне становится страшно, чертовски страшно.
Если прятать голову в песок, это не решит проблему и совершенно точно не поможет нам с Хадсоном выбраться из этой чертовой передряги моего авторства. Но, может быть, если об этом поговорить, это поможет делу.
– Решайте задачу, – бывало, говорил нам в десятом классе наш учитель алгебры. – Вам необходимо изучить ту информацию, которая у вас есть, и сделать так, чтобы она привела вас к правильному решению.
– Я могу читать твои дневники, потому что каким-то образом ты заперт в моей голове. – Мне тяжело это говорить, очень тяжело, и от этих слов все внутри меня дрожит. – Я могу читать твои дневники, но не твои мысли. Но сам ты знаешь, что думаю я, и можешь видеть мои воспоминания.
Я снова оглядываюсь по сторонам, оглядываю комнату, которая скорее принадлежит ему, чем мне.
– Эту комнату создал ты, но контролировать ее могу я, а значит…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Наоборот (фр.).