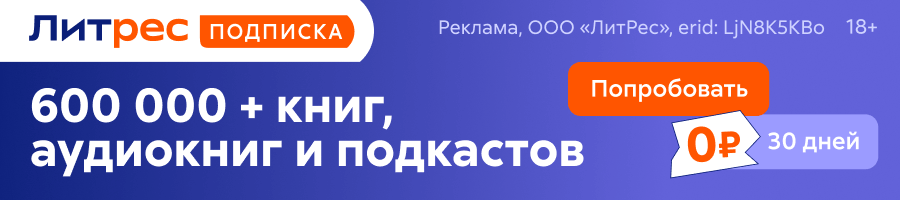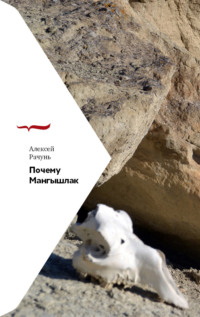Полная версия
В миру
О них много говорилось, проблема обсуждалась, обросла обширной полемикой, от кухонь до властных кабинетов. Множились и росли ни на что не влияющие общественные организации. Политизация, что называется, зашкалила. Под эту говорильню удалось вытрясти у Запада много денег. Хотелось еще, тем более ничто так не развращает, как дармовщина. Любой, кто выигрывал в лотерею хоть сто рублей, это подтвердит.
Запад, подумав, подкинул еще. Потом еще. Поняв, что его водят за нос, выждав для приличия, стал требовать уплаты. Как ни сладко было жить на халяву, но пришлось идти на уступки.
Что ж, решили наши изворотливые умы, вы хотите реформ, вы хотите изменений, вы хотите переустройств и демократий – сделаем!
Был придуман план, по которому главный выборный орган страны, Вече, реформировался. По задумке, место в нем получали не только цеховые представители, все как один, будь то сталевары или художники, но выразители профессиональных интересов, но и представители общественных организаций, то есть выразители прихотей и придури. А чем это не демократия?
Вновь началась полемика, обсуждалось, кто, от каких организаций, как будет избираться. Цеха противились, но процесс, что называется, пошел. И опять первым был криминал. Бандиты тотчас оказались общественниками. Силовики, в противовес, тоже насоздавали фондов, организаций ветеранов и стали отжимать с едва нарождавшегося поля всех остальных – дурковатых идеалистов-диссидентов, увлеченцев, националистов, зоозащитников, пыльцеедов, и прочих любителей. Две могучие силы зачищали себе место на свежей, неутоптанной поляне, готовясь к схватке.
И вдруг возникла третья сила. Церковь называет их содомитами, но, с подачи «спонсоров» реформ их стало принято называть «меньшинствами». Как их не называй, но такие люди существовали всегда, и ни один режим их не мог искоренить. Другое дело, что они сидели и не рыпались, но то были времена суровых нравов, суровых действий и решительных властителей.
Конечно, две уже вступившие в партер и вставшие в стойку силы затоптали бы этот балаган, но он неожиданно понравился «спонсору» реформ. В этом пошлом цирке тотчас разглядели истинную демократию. И, отслюнявливая очередной транш, намекнули – что показная половая свобода, это не распущенность и попрание морали, а наоборот, признак облагодетельствования человечества свободой, и начало демократических перемен.
Так меньшинствам была выделена квота для избрания в Вече. Отныне, вместо того, чтобы дышать затхлой плесенью сырых узилищ изгоев, они сами получили право хоть и не сильно, но источать запахи. И теперь собирались это дело отпраздновать. Они задумали парад. Такие шествия должны были пройти по всей стране.
Раньше мне было все равно. Я если и думал на эту тему, то только в том ключе, кто же просечет тему первым и внедрится под голубые знамена. Меня бы позабавило, будь это криминал. Я бы даже сделал ставку, заведи букмекеры такую линию.
Но первым определился кандидат Коноводов.
И потому когда мне позвонил Дед, и раздраженно сообщил, что интервью с Коноводовым нужно срочно снять из номера потому-что это теперь не наш кандидат, а «их» кандидат, я недолго горевал, что плакал мой журфак.
Я вспомнил пьяный разговор в баре, позвонил Сереге, и попросил пояснить что значит «нас много» и не собираются ли «они» что-то предпринять.
***
Вскоре мы были на месте. Акционеры располагались на крыше перестраиваемого облунивермага. Однако новые времена принесли новые названия, и теперь на старом, ободранном от штукатурки как липка от коры, здании, уже пустили побеги огромные неоновые буквы вывески "Торговый центр". Пять этажей, стены с пилястрами и лепниной. Сейчас от постройки того времени остался лишь фасад, выходящий на площадь. Все остальное было снесено и на старом месте возведена бетонная коробка – поражающая размерами и пока пустая утроба.
Поднимаясь на крышу я глядел на неотделанные шершавые стены, обрывки кабелей, наспех подвешенные, еще не закрепленные огромные короба вентиляции, и ощущал себя ничтожным микробом в пустом и голодном брюхе невиданного зверя, живущего в невероятных размеров зоопарке. Зверя, давно уже прирученного и смирившегося со своей участью. Он лежал на боку и ожидал кормежки. И очень скоро, с открытием, закипит, забурлит, зачавкает в его утробе пищеварительный процесс под названием торговля и товарооборот. И из пасти будут бесконечно срыгиваться довольные покупатели. Когда-нибудь срыгнусь и я, мне как раз новый диван нужен.
Из-за шествия стройка стояла пустая, огороженная забором, прикрытая от глаз строительными лесами с натянутой сеткой. На крыше было полтора десятка неотличимых от Олега молодых людей. Выделялся, пожалуй, лишь парень в черной бандане как у пирата. Если большинство валялось на рюкзачках, то этот расхаживал, оживленно разговаривал по телефону и жестикулировал. Сереги не было видно.
– Привет, – подошел я к парню в бандане, едва он убрал телефон, – а где Сергей?
– Какой Сергей, – удивился он, – а, Сергей! Слушай ты ведь Марат, журналист? Привет, я Николай, типа, старший здесь. – Николай протянул потную ладонь и взблеял козлиным смешком. Он заметно нервничал. – Сереги сегодня не будет. У него какое-то внезапное дело. Но ты не волнуйся, мы и без него управимся. Скоро начнем.
– Что начнете-то, Николай?
– Да так, типа, «акцию», ничего особенного. Покидаемся, типа, бутылками с соусом, покричим «Эти не пройдут».
– А если голову кому-нибудь пробьете?
– Не волнуйся, все продумано. Во-первых, бутылки небольшие, пластиковые, во-вторых без крышек.
По парапету действительно были расставлены бутылочки из пластика. Этикетки сообщали, что в них томатный соус. Крышки валялись тут же, собрать их никто не удосужился. Все было как-то разгильдяйски. Акционеры пили пиво. Захотев в туалет тут же, не стесняясь девушек, мочились, курили, окурки бросали в растекающиеся лужи. Запах их нисколько не заботил. Еще бы, какой запах, какая чистота и санитария, когда детишки играют в революцию!
Отойдя в сторону я снова набрал Серегу. Он не отвечал.
Выбрав удобное место, я уселся на рулон рубероида, вынул фотоаппарат и сквозь видоискатель стал определять лучшие точки будущей съемки. Нужно было избегать тени, проводов и рекламных растяжек.
– А тут нельзя снимать, – раздался за спиной голос Олега.
Я повернулся, пожал плечами и спустил затвор. На экране камеры появилась несфокусированная рожа Олега. Пока он соображал, я уже убрал камеру в рюкзак.
– Я же журналист, – улыбнулся я как можно дружелюбнее.
Ну не выгонят же они меня с крыши. Это же еще бесшумно суметь нужно. А вдруг я закричу?
– Все равно, у нас своя пресс-служба, – Олег указал рукой на девчонку с кольцами в ноздре, – мы потом дадим фотографии.
Спорить я не стал. Все равно сделаю, как мне надо.
Уже гремела, пока вдалеке, бравурная музыка, однако шествия еще не было видно.
***
Когда накануне позвонил раздраженный Дед, и потребовал заменить интервью с Коноводовым на что угодно, я удивился. Узнав в чем дело, не поверил. А проверив информацию – разозлился.
Коноводова-то можно было понять. Его предвыборные шансы в нашем Конце были пусть и велики, но конкуренты поджимали. И добропорядочный отец семейства Коноводов, великий энтузиаст и мыслитель, государственный муж и политик вполне мог не попасть в Вече. Тогда как «эти» вероятно пообещали ему столбовую дорогу. В их сообществе все всё понимали. Раз выпал такой шанс, значит для представительства во власти нужен не сирый наплюмаженный ливер, а деловой человек и опытный политик. И они, каким-то макаром, подкатили к Коноводову.
Коноводов тотчас переметнулся и перекрасился. Его лицо, на фоне триколора, слегка заголубело. Если раньше в его программе утверждались ценности традиционной морали и семьи, то теперь, в переметных экспресс-интервью появилась иная риторика.
Казалось бы, и пускай. Однако этот прохвост Коноводов кинул не только наш Конец, не только Пыряева, но и меня. Рухнули в тартарары надежды о поступлении. Эх ты, Коноводов, ты ж в мою мечту плюнул, чудак ты политический!
Впрочем – мало ли у кого какие мечты. Мечты тоже всякие бывают – например, достижимые и недостижимые. Я вот на субботу запланировал свидание с Люсенькой. Да, да! Уж не знаю, что щелкнуло в ее «механическом» сердце, но она согласилась сходить со мной в кино и поесть мороженого. И даже не назвала меня нахалом, когда я спросил, какое мороженое она любит – в вафельном стаканчике, или на палочке.И вот теперь я, вместо того, чтобы убирать квартиру, морозить лед для шампанского и резать фрукты, вынужден, жалко отмазавшись перед Люсенькой, торчать на пыльной крыше.
Психанув на Коноводова, на Деда, на себя, я втемяшил в голову, что нужно не просто заменить интервью Коноводова на абы что, а заполнить полосу им же. Только теперь это будет чернушный репортаж. С его же фотографией, но в окружении мерзких рож с непотребного шествия. Получи и распишись, в понедельник, на первой полосе самой массовой газеты в городе. Держи, урод, подачу! И чтобы другим неповадно было.
Попасть на крышу мне помог менеджер Серега. Он тогда в кабаке и проболтался, что является членом тайной организации, готовящей против «этих» акцию. Серега парень хороший, но всегда был треплом. Он пытался меня завербовать, а вышло так, что это я его завербовал на службу скандальной хронике.
4.
Шествие приближалось. Уже видна была пестрая толпа, катившая по бульвару. Она обволакивала какие-то громоздкие конструкции наподобие передвижных трибун, подробнее пока нельзя было разглядеть. Слышался бодрый голос, усиленный мегафоном. Издалека шествие напоминало обычную демонстрацию. В скором времени колонна должна была прибыть сюда, в место, где площадь опять переходила в узкий бульвар.
Дураки – дураками, а место выбрали удачно – подумал я про акционеров.
Когда участники шествия пройдут площадь, втянувшись в узкую горловину проспекта, задняя часть неизбежно отстанет. Она и попадет под кетчупометание. Возникнет паника и милицейская стража просто отсечет голову шествия от хвоста. Голова уйдет дальше, а стража рассеет ту часть толпы, что оказалась под обстрелом. Тут-то соусометатели спокойно выйдут со стройки и растворятся в суматохе. Хороший план! Неужели сами придумали?
От мыслей меня отвлек шум. Он шел снизу и сбоку, с улицы, примыкавшей к площади перпендикуляром. Выглянув, я увидел неожиданную картину. Полсотни пожилых людей, судя по орденам и планкам на стареньких выходных костюмах – ветеранов, решили организовать что-то похожее на протестный митинг. Старички и старушки, одевшись поторжественней, вооружившись самодельными плакатами с лозунгами и символами минувшей эпохи, пытались пройти на площадь. Но милицейская стража их уже надежно блокировала.
Старички галдели. Раздавались требования пропустить и угрозы обратиться во все инстанции. Гомон нарастал, народу прибывало. На выручку спешили из домов по соседству, подтягивались зеваки. Начальник стражи – толстый капитан увещевал толпу, но его никто не слушал. Все галдели и перебивали и капитана, и друг друга. Капитан разводил руками:
– А что я сделаю, не положено…
Рация на его поясе шипела и пульсировала огоньками, но слов было не разобрать. Махнув, капитан ушел в патрульную машину. Вскоре количество нарядов возросло. Стража выстроилась в живую цепь и перегородила улочку от дома до дома. Старички наперли на нее и остановились. Позади сборища тоже вырос своеобразный заградотряд. Протестующие оказались в горле узкой улочки наподобие пробки в бутылке с шампанским, которая может быть вынута только в одном направлении. В том, где она плотнее всего сидит.
Не успел я подивиться на сноровистую в борьбе со стариками стражу, как меня позвал Олег. Шествие накатывало разноцветным пенным валом, точно волна на черноморский пляж, – такое же обилие всякого мусора. На фоне низкого серого неба этот пестроцвет казался особенно ярким. Уже можно было начинать снимать, и я, прикрывшись от акционеров рюкзачком, сделал на пробу пару снимков. Потом еще раз проверил видоискателем точки съемки, и неожиданно увидел в объективе соседей. На крыше дома напротив располагалась съемочная группа – оператор с камерой и пара человек. Их одинаковые яркие жилеты алели на фоне закурчавившегося тучами, серого неба, почти слившегося цветом с крышей. Я хотел было сказать о соседях акционерам, но отвлекся на шествие.
Оно уже вваливалось на площадь. Впереди шли барабанщицы-мажоретки, высоко взбрыкивая полными ляжками в коротких белых шортах. На барабанщицах явно сэкономили, предпочтя не нанимать вышколенных моделей из агентства, а насобирав по сусекам разноростную гамазню. Они и шли соответственно, постоянно сбивая шаг, отчего их многорядная колонна семенила ногами в ботфортах. Это смешное заплетание ног было похоже на движение какой-то подгулявшей многоножки.
Удары по барабанам мажоретки лишь имитировали. Зато шедший за девками духовой оркестр во все щеки выдувал звуки, да вторил ему, отбивая ритм огромный полковой барабан. Два литаврщика перед оркестром от души лупили по тарелкам, не отрывая глаз от аппетитных, жопастых барабанщиц, что плелись перед ними и смешно спотыкались.
За оркестром следовал строй жеманных, карикатурных педерастов, впрочем жидкий и немногочисленный. В нем преобладала военная-голубая тематика, та, в которой любят изображать подобных персонажей низкопробные комедии – фуражки с высокой тульей, раскрашенные хари, яркие губы и щетина. Присутствовали также френчи, аксельбанты, портупеи. Все это даже с крыши выглядело бутафорски. Сборище двигалось за оркестром пусть и соблюдая какое-никакое построение, однако неуверенно. Было видно, что участники не в своей тарелке; они пугливо озирались, робко улыбались и изредка подбрасывали вверх конфетти.
Далее ехало нечто, издалека показавшееся мне огромной кучей дерьма. За ним уже просто текла разноцветная толпа с шарами, картонными вертушками и плакатами на тему свободной любви. Она состояла из сочувствующих, и простых зевак, затесавшихся ради прикола. Глаз еще изредка выцеплял в толпе какого-нибудь экзота со страусовыми перьями в дряблом заду, но это была именно что экзотика.
Самое же интересное было в дерьмоподобном сооружении на колесах. Еще когда только шествие вползало в площадь, когда эта самодеятельная бутафория едва начала распространять из динамиков сладкоголосую попсовую вонь, мне показалось, что только так и можно представить господнюю срань, ползущую за демонстрантами вниз по бульвару.
Будто бы кто-то сверху так прогневался, глядя на эту дешевую попытку влезть задом в калашный ряд, что принялся плевать и швыряться всякой дрянью, и накидал ее целую кучу. И теперь эта огромная дермьмомасса ползет, настигая грешников, накатывает на них и вот-вот погребет и стерет в порошок. Дополняло впечатление изредка взлетавшее конфетти. Оно медленно осыпалось вниз, как будто этот кто-то сверху подтер зад бумажками и бросил их туда же, в ту же фекальную кучу.
По мере надвигания дерьмоколесницы на площадь стали видны ее очертания, а вскоре можно было уже разглядеть все в подробностях. Это была драпированная площадка, вроде постамента или трибуны из досок, установленная на прицеп. Тянувший прицеп тягач был обит фанерными декорациями и изукрашен цветами. Ровно так и поступали раньше с грузовиками на первомайских демонстрациях.
Грузовик двигался медленно, со скоростью человеческого шага. По бокам от площадки вышагивали мускулистые парни. Они были с ног до головы выкрашены в бронзовый цвет, из одежды на них были лишь золотистого цвета набедренные повязки, да такие же сандалии. Качки несли на плечах серебристую цепь, со звеньями размером со среднюю дыню. Цепь тоже была бутафорской, из пенопласта или папье-маше. Лица качков были сосредоточены и суровы.
На самой же площадке, у подножия коричневой конструкции, также по периметру, располагались девки, выряженные на манер баскетбольных группиз-чирлидерш; короткие юбки, лохмотья из розовой мишуры от колен и до пят и розовые же топики. В руках у них были вееры-мочалки. Головы их венчали странные розовые конструкции, походившие издали на распущенные павлиньи хвосты, только остриженные на высоте в полметра. Лица их были размалеваны, оклеены блестками, обляпаны позолотой. Девки дрыгали ногами, трясли мочалом, вертели жопами и имели довольный вид, ибо привлекали всеобщее внимание.
Внутри кольца из девок располагалась собственно конструкция. Это был деревянный, высотой метра три постамент, задрапированный портьерной тканью. Он сходился от основания кверху конусом и на всю высоту был обтянут красными лентами. Сверху постамента располагалась площадка, на которой восседало отвратительное нечто, изряженное в пух и прах, напомаженное и наплюмаженное. В синем в блестках платье, обтягивающем костлявую мужскую фигуру, в перьях, в огромном головном уборе из поролона в виде сердца. Впрочем, сшитом настолько безыскусно, что убор вполне мог сойти и за чью-то огромную, нахлобученную на человечью голову жопу.
К ногам недоразумения сиротливой кучкой были навалены такие же как у культуристов, но разломанные на куски звенья цепи, символизирующие, видимо, освобождение содомитов от векового гнета. На обломках стояла плетеная корзина, в каких обычно фотографируют для открыток котят. Существо время от времени черпало оттуда презервативы и разбрасывало их вокруг жестами сеятеля. Окончив сев, оно вскакивало и начинало под музыку бесноваться, дрыгать руками и ногами пытаясь завести толпу, теснящуюся по тротуарам. Толпа изумленно взирала на уебище и посмеивалась.
Вообще этот королек был настолько жалок и комичен, что напоминал скорее Отца Федора на скале возле замка Тамары, радующегося бегству и колбасе, нежели представителя людей, ликующих по поводу признания их политической силой. Впрочем, беснования его были так неистовы, так остервенелы и дики, что вместе со всей этой движущейся кодлой – бронзовыми педерастами, розовыми лесбиянками, коричневой горой являли собой сбывающееся апокалиптическое пророчество…
– Марат, – позвал меня Олег. – Мы начинаем. На вот, повяжи.
Он протянул мне черную бандану. У всех остальных, как у грабителей из вестернов, такие уже были намотаны на лицо. Я машинально сунул бандану в карман и глянул за край крыши. Туда, где стража заблокировала шествие ветеранов. Акционеры смотрели в другую сторону. Их похоже заворожило явление народу гнойного прыща. Пресс-секретарша, откидывая челку, прильнув глазом к фотоаппарату, бряцая об него кольцом в ноздре, отщелкивала кадр за кадром, как гильзы из пулемета.
А народу в улочке прибыло, постовые по прежнему стояли цепью, и навалившийся на нее народ пытался разглядеть, что же происходит на площади. Задние давили на передних, тянули головы, вставали на цыпочки. Те, кому удавалось что-нибудь разглядеть, рассказывали соседям, те передавали дальше, добавляя от себя подробностей. Отовсюду из толпы торчали руки с телефонами. Отсняв несколько кадров, они исчезали, чтобы разглядеть снимки, и вздымались опять. Одни руки опускались, другие поднимались, и сверху казалось, что это множество лебедей, приземлившихся на маленьком, но неспокойном озерце устроили причудливый танец, то ныряли, то выныривали в другом месте, оглядывались и опять ныряли. По толпе, как ветер, гуляли разговоры, тут и там поднимались волны ропота. Ветром потянуло и по улицам. Воздух свежел. Обещался дождь.
Я вернулся на место. Рядом сидел на корточках Николай. Он чесал поочередно то запястья, то лицо под банданой.
– Пенсионеров видел? – Спросил я.
– Видел, – отмахнулся Николай. – Когда будем отходить, не спутай. Пенсионеры типа с левой стороны стройки, а мы уходим с правой.
Начался митинг. Я отснял все что нужно, сделал пометки в блокноте и теперь лежал, подложив под голову куртку, а под спину кусок картона. Так и коротал время – просматривал снимки, и курил. Можно было уйти, но без провожатого я боялся заблудиться в лабиринтах стройки. Наконец раздались аплодисменты. Это завели шарманку официальные лица.
Громогласно отрапортовал о наступлении новой эры Коноводов, обрисовали обстановку какие-то важные туловища, затем заиграл оркестр и площадь зашумела.
Выглянув, я увидал всколыхнувшееся шествие. Оно вытягивалось гуськом, всасываясь с широкой площади в узкую улицу и пока еще не набрало хода. Транспаранты, лозунги и гирлянды нестройно дрожали. Выжидая время чтобы выровнять дистанцию, то начинали ход, то замедлялись людские потоки.
С высоты казалось, что толпа ежилась и зябла, как девушка, ждущая кавалера на свидании под набегающей тучей, кутаясь и сжимаясь в ожидании еще не хлынувшего дождя. К дождю все и шло.
Акционеры, все как один в намотанных на лицо платках, были напряжены и полны решимости. Они и были той тучей, пока еще неопасной, но исполненной воли пролиться на землю. Смыть с нее пыль и грязь, сделать свежее и чище. Они были прекрасны в этот миг, как прекрасен момент надвигающейся грозы, когда еще ни молнии, ни гром, ни дождь и не ветер не заставляют никого в панике искать укрытия, но солнца уже нет на небе. И все кругом есть одно лишь предчувствие новородной свежести.
Они были прекрасны и одухотворены лишь миг. Потом прозвучала короткая и сухая, как щелчок кнутом команда, и прекрасные их лица перекосила отчаянная судорога идущего в бой смертника, отступать которому некуда.
Вниз летели бутылки с кетчупом. Одни, переворачиваясь в воздухе, разбрызгивали кругом содержимое, другие долетали до земли и с хлюпаньем выплескивались жижей, в которой тут же поскальзывались люди. Некоторые бутылки попадали в головы людей и красный соус растекался по волосам, шее, груди, спине будто кровь. Я едва успевал щелкать затвором камеры.
А внизу началась паника. Люди, по инерции напиравшие с конца шествия, попадали под обстрел бутылками, видели «окровавленные» лица и ужасались. Они безотчетно метались, спеша выйти даже не из зоны обстрела, а из круга ужасных, обезображенных людей. Кто бежал вперед, кто назад, другие пытались заскочить под навес торгового центра, но оттуда их выпихивали заскочившие ранее. Какой-то мужичок с маленькой собачкой на руках пытался заскочить под козырек раза три, пока его не вытолкнули в самую гущу бурлящей толпы. Она, как водоворот, подхватила его, и он лишь в самый последний момент вздел над головой собачонку. Вскоре он исчез, наверное упал, но собачка осталась наверху, кто-то успел ее взять на руки. Потом я упустил собаку из виду.
Толпа пульсировала, и почти осязаем был ее нарастающий, трепещущий страх. В его вихрях никому не было дела не то что до собачонки, но и до ближнего, лишь животный инстинкт гнал каждого в укрытие. Никому и в голову не приходило, что стекающая со лба жижа имеет сладкий вкус, что в ней есть кусочки овощей, что ран нет, что боли нет. Всеми овладела бессмысленная и ужасная паника. Толпа металась и бесновалась, и месилась и мялась, будто кипящий студень. Тяжелыми брызгами из него порой выскакивали люди.
И все же страх и паника проходили. Милицейская стража расшвыривала людей, пытаясь проредить толпу. Кое-кто, поняв в чем дело, уже смеялся и вытирал со лба кетчуп. Кто-то только приходил в себя. Толпа бурлила, но уже не так яростно.
И вдруг случилось нечто, вмиг превратившее акцию хоть и в злую, толкуемую законом как хулиганство, но шутку, в трагедию.
Зажатая стражей в прилегающей улочке толпа старичков, давясь от любопытства, все-таки прорвала оцепление и хлынула на площадь, туда, где пока продолжала бушевать овощная свистопляска. Наддавшие сзади на передних зеваки выдавили их сквозь едва удерживавших цепь милиционеров на площадь и передние вклинились в забрасываемую кетчупом толпу, как ледокол в торосы.
Ветераны с транспарантами и флагами оказались в роли авангарда копьеносцев и со страху начали молотить инвентарем по толпе. Часть из них, не удержавшись на ногах под чудовищным давлением задних упала, кто на колени, а кто и плашмя и по ним двинулась наседающая толпа. Обстреливаемые же на площади, увидев в улочке спасение, наддали навстречу, и началась давка.
Бутафорская кровь сменилась настоящей, вопли страха – воплями боли и уже не страх, а ужас заполонил все вокруг. Кругом раздавались стоны раненых и раздавленных, хруст костей, хрипы, вопли, и истошный визг погибающих в страшном месиве.
Выход с площади в узкую улочку кипел и бурлил, клокотал как чудовищное, растекающееся по полу варево, будто чан с кипящим студнем опрокинули в лоток с живыми цыплятами.
Пошел всамделишный дождь, но ничего не остудил. И перестал.
Над площадью еще крутились и колыхались флаги и транспаранты, портреты вождей, лозунги наступавшей и минувшей эпох. Раскрашенные, размалеванные рожи нынешних провозвестников паскудства, и шершавые, сморщенные от старости и пережитого горя лица ветеранов – все сталкивалось и смешивалось в одну на всех погибель.
Овощная бомбардировка шла от силы минуту, а момент когда сошлись в давке два людских потока – немногим больше. Для меня же будто прошла вечность.