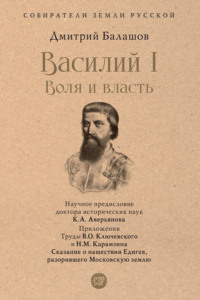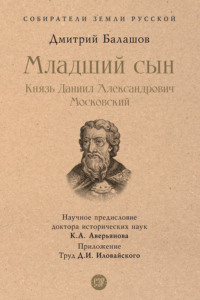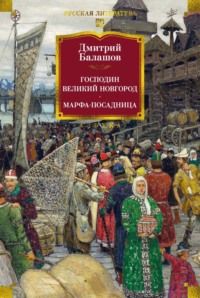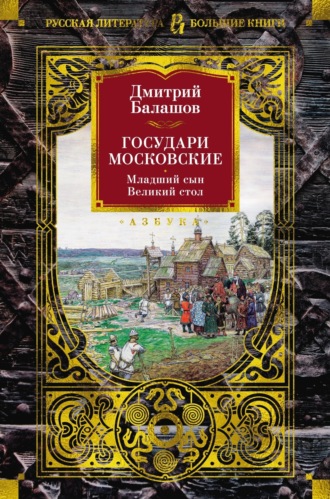
Полная версия
Государи Московские: Младший сын. Великий стол
Андрей не ожидал подобных размахов. Про себя при слове «шатер» он представлял обычный походный шатер княжеский, сюда же могло уместиться четыреста, а то и пятьсот человек. Узорчатые войлочные покровы едва виднелись из-под паволок, переливчато сиявших на солнце, с вытканными китайскими драконами и сказочными птицами на них. Золотая парча лентами обвивала все сооружение. Нукеры в серебряной чешуе доспехов, с узорными круглыми щитами и сверкающими копьями в руках, замерли у входа. Плоские узкоглазые лица были надменно-неподвижны. Русская дружина осталась позади, и вдруг Андрею стало не по себе. Кто он? Русский владетельный князь или пленник, пойманный среди белых и расписных шатров, среди чужой, чужому слову покорной рати. Что у этих в мыслях? Что на сердце? Своих, русичей, понял бы со взгляда, а этих – гляди не гляди – чурки с глазами. Окружают, берут коней под уздцы, приходится спешиваться – не близко от шатра – и идти пешком в княжеском пурпурном корзне, что волочится и цепляет за траву… Стыд, срам! А этим – хоть бы что, и не смеются даже.
«Вот она, Семенова Византия! Ни мрамора, ни палат, а дрожишь, как последний щенок! – думал Андрей, приближаясь к шатру. – Вот она, власть!»
Он вздрогнул, чуть не позабыв, что нельзя ни за что на свете задевать порога шатра. («Не то убьют!» – полыхнуло в мозгу и словно варом обдало всего.) Где здесь порог? Верно, эти вот веревки!
Первым вошел Борис Василькович. Андрей ступил следом, скованно повторяя движения ростовского князя. Только уже переступив злополучный порог и отойдя от него на несколько шагов, он опомнился и сумел оглянуться по сторонам.
Свет падал сверху в отверстие шатра, но так рябило от сверкания драгоценных одежд, утвари, узорных ковров, от многолюдья разряженных придворных, что он не сразу сумел разглядеть самого Менгу-Тимура, и опять едва не сбился, ибо теперь надо было преклонить колено и принять серебряную, восточной работы чашу с кумысом. (Который, впрочем, как заранее объяснили ему, можно было только пригубить: упорное нежелание русских пить кумыс было принято в Орде во внимание.) Тут же стояли другие чаши с медом и вином из разных земель, подвластных Орде или торгующих с нею.
Хан ответил на приветствие гостей наклонением головы. Им подали скамьи, и теперь только Андрей сумел рассмотреть все как следует. Прямо перед ними тянулось разубранное возвышение, твердая основа которого была вся до кусочка укрыта узорочьем. В середине стоял низкий, с круглою спинкой, золотой трон. На троне, скрестив по-монгольски ноги в шелковых шароварах, в сверкающем парчовом халате и в венце сидел Менгу-Тимур. Лицо его было так же бесстрастно, как у нукеров перед входом. Впрочем, приглядевшись, Андрей понял, что он чуть-чуть улыбается, разглядывая своих русских улусников. Слева от хана, пониже, сидели его жены, в высоких, точно шлемы с навершьями, и еще расширяющихся вверх от середины, шапочках, обернутых парчой и шелком, с золотыми прутиками на самом верху убора, в голубых, рисованных драконами халатах, толстые, недвижные, с такими же узкими, словно полуприкрытыми глазами. Справа от Менгу-Тимура и внизу, перед возвышением, густо сидели придворные хана: родичи чингизиды, нойоны, темники и тысячники, монгольская знать, покорившая мир. Впрочем, и не только монгольская. Андрей заметил белые пышные бороды и иной склад лиц у некоторых из сидящих в шатре. Слуги, стража, музыканты, виночерпии теснились по сторонам и у стен двойного шатра, узоры которого внутри были иные, чем снаружи.
«Вот она, власть!» – повторил про себя Андрей, не понимая толком: от заморского вина, от оглушительных хлопков в ладоши после каждой выпитой чаши или от этой многоцветной роскоши кружится у него голова. Принимая чары, он сперва не закусывал, и только уж когда Семен незаметно кивнул ему, заметил кожаные, позолоченные по углам, тарели с мясом и дичью. То и другое полагалось брать прямо руками или маленькой двоезубой вилочкой. Менгу-Тимур спрашивал что-то, почти не шевеля губами, толмач переводил. Андрей снова не сразу понял, что спрашивают его.
– Да, да, он средний сын Александра Невского, князь городецкий!
И еще что-то было сказано, в похвалу его отцу, от чего Андрей почувствовал, что неприлично, по-мальчишечьи краснеет.
При каждой новой чаре, что подавалась гостям, играла музыка. Менгу-Тимур еще что-то спросил, и толмач перевел:
– Почему мы не видим здесь нашего князя Дмитрия?
Вопрос вызвал мгновенную заминку. «В самом деле, почему?» – подумал Андрей. Еще час назад, едучи через город, он бы не подумал так, находя вполне разумным, что брат прежде всего кинулся в Новгород.
Отвечал хану боярин брата, Гаврило Олексич, и Семен тоже сказал несколько слов по-кипчакски, словно дополняя ответ Гаврилы, на что Менгу-Тимур чуть заметно нахмурился и переглянулся с приближенными.
Торжественный прием на этом был окончен. Князья встали и, пятясь, – оборачиваться спиной к хану не полагалось – покинули шатер.
Андрей еще весь был в сумятице чувств и мыслей после приема у хана, когда вечером того же дня Семен Тонильич пригласил его в гости к одному из ордынских вельмож, Олексе Неврюю, сыну того Неврюя, что когда-то громил покойного дядю Андрея, освобождая для Александра Невского владимирский стол.
Семен уже дорогою объяснил Андрею, что мать Олексы была христианка, сам он крещен по православному обряду, и сын Александра Невского для него – желанный гость.
Андрею тут первый раз довелось увидеть каменное ордынское жилище, выстроенное Неврюю мастерами из Хорезма.
Дверь узорчатая, наборного дерева, с большими, кованой меди, позолоченными узорными гвоздями; затейливые выкладки из синих, голубых, зеленых, желтых и белых изразцов в нишах наружной стены; решетчатые окна, свободно пропускающие воздух, в которые, однако, невозможно было заглянуть, и дворик внутри дома, застланный ковром и отененный какими-то незнакомыми низенькими деревцами с раскидистой кроной, дворик, куда выходили двери и окна, забранные резными ставнями, из разных покоев. В просторной и неожиданно высокой палате хозяина (с улицы дом казался гораздо ниже) все было устроено на восточный лад. Ковры и низенькие столики, и кованые кувшины, и расписная глазурь в узорчатых открытых нишах стен. О христианстве хозяина напоминали лишь небольшая икона в углу, с лампадкой перед нею, да серебряный позолоченный крест на стене.
Дружинников, с которыми приехали Андрей с Семеном, проводили в другое помещение. Хозяин, еще очень не старый, с внимательными, чуть раскосыми глазами, прямым носом и несколько более густой, чем у других татар, бородкой, коренастый и широкоплечий, принял их спокойно, радушно. Семена – как старого знакомого, Андрея – с цветистыми приветствиями, которые Семен не без удовольствия тут же и перевел. Впрочем, далее выяснилось, что Олекса Неврюй совсем неплохо говорит по-русски. Он не суетился, слуги, казалось, понимали его мысли.
Андрею подали скамеечку. Семен Тонильич уселся по-восточному. Внесли серебряный таз – ополоснуть руки. Потом начали носить блюда. Мясо наперченное, мясную, с длинною упругой лапшою, густую похлебку, мед и вино, кумыс, который Семен пил, а Андрей, поняв, что тут можно и не пригубливать, незаметно отставил в сторону. Снова мясо с иноземными пряностями, наконец – белые пшеничные лепешки и фрукты (овощи, как говорили на Руси), свежие и засахаренные, вяленую дыню, тягуче-сладкую, инжир, сушеный виноград, персидский, приторно-сладкий замороженный напиток с фруктами – шербет.
Откинувшись на подушки, хозяин наконец заговорил, неспешно подбирая и очень чисто произнося русские слова:
– Народ моалов невелик числом и еще темен. Но мы покорили мир, и если бы ныне нас самих не разделила война, наши кони давно бы дошли до последнего моря. Папа римский и франки сейчас присылают каану своих послов и дары. Кесарь Михаил ныне дружен с нами. Но папа пересылается также с нашим врагом, иль-ханом Абагой, и мы знаем об этом. Твой батюшка был другом великого Бату, деда нашего каана. Скажи, будет ли таким же другом ему твой брат, князь Дмитрий? Менгу-Тимур опечален тем, что не увидел нынче его лица.
– Великий князь Дмитрий очень спешил в Новгород! – ответил за Андрея Семен. – Каан не должен слишком винить нашего великого князя. Новгород своеволен. Но оттуда идет серебро на Русь и в Орду. Немцы зовут Новгород ключом к Русской земле. У нас верят: тот, кто возьмет Новгород, станет королем на Руси, стойно западным государям. Триста лет назад наш великий каан Владимир, крестивший Русскую землю, привел из Новгорода полки руси и варягов, с коими разбил брата Ярополка с печенегами, захватил Киев и стал хозяином русской земли. Что ж! Мудрые молвят, что жизнь идет коловратно и возвращается на круги своя, подобно течению планет!
Андрей несколько осоловел от непривычной и обильной еды, от хмельных питий, которые тут были еще разнообразнее, чем в ставке хана, и потому трудно понимал хитрые извивы разговора, который затеял наконец Семен Тонильевич. По мере того как разговор становился все откровеннее, Андрей мрачнел и отвечал все короче и суше. Семен явно вел дело к тому, чтобы опорочить Дмитрия перед ханом. Однако взаимная клятва еще свежа была в памяти городецкого князя, да и здесь, вдали от дома, так, сразу, в чужом доме и среди чужого народа, он словно острее почувствовал, что они с Дмитрием как-никак родные братья, и эта хитрая игра Семена уже начинала не нравиться ему…
Уже когда они ехали верхами домой в полной темноте, слыша только топот копыт дружинников за спиною, вслед за факелоносцем-ордынцем, который трусил впереди, указывая дорогу, Андрей отмолвил почти враждебно:
– Брат не виноват перед ханом, что не приехал кланяться. Рать-то он послал! – И, поскольку Семен молчал, добавил погодя с хмельным упрямством: – И передо мной не виноват! Ты что молчишь? Не виноват он передо мной! И я – тоже – не виноват…
Семен молчал.
Глава 36
Дорога бежит из ворот Переяславля, мимо хором и палат, клетей, изб, амбаров, лавок, сушилен, коптилен, кузниц, красилен, кожевенных, скорняцких, седельных и щитных мастерских ремесленного окологородья, мимо окраинных церквей, мимо куполов и башен Горицкого монастыря, плавно подымаясь на угорье, полями и пашнями, селами и деревнями, раменьем и бором, ныряя с холма на холм, убегает на запад, к Дмитрову и дальше, сворачивая на север, Серегерским путем, через Молвотицы, к славному озеру Ильменю, к Господину Великому Новгороду.
Поскрипывают тяжелые, груженные воском, скорой, зерном, медом и лопотью возы. Надежно увязаны, укрыты рогожами, стянуты смоленым вервием кули и бочки – путь не ближний. В кожаном, с серебряными узорчатыми оковами возке едет в Новгород, к мужу, великая княгиня с дочерьми и младшим сыном Александром – жданным, моленным, и назвали по деду, будет помощник отцу! Старший, неудачненький, Ваня, остался в Переяславле, опять приболел, побоялась брать с собою. Княгиня то оправит платьица на дочерях, то возьмет Сашуню у няньки из рук, прижмет, зацелует. Глаза у княгини сияют; ехать и ехать еще, а уже не сидится, и сердце бьется тревожно: как он там без нее? Милый, болезный, ненаглядный! Она высовывается в окошко – покликать кого из слуг. Терентий, Митин боярин, завидя великую княгиню, шпорит коня, рысью подъезжает к возку. Он улыбается, и княгиня улыбается боярину. Спрашивает о жене, о сыне, что недавно родился у Терентия. Боярин отвечает, наклоняясь с коня, улыбка не сходит с его румяного красивого лица. И княгиня видит, что Терентий красив и внимателен к ней, и еще больше радуется за себя и за Митю, которого они все так любят. Терентий отъезжает и издали, оборотясь, машет ей рукой, и княгиня машет ему своей маленькой ручкой со сверкающими перстнями на пальцах и, довольная, отваливается на узорчатые восточные подушки…
Обоз ведет Миша Прушанин, старый боярин, что еще на Неве когда-то бился вместе с покойным Митиным батюшкой. Миша уже старый, великая княгиня немножко робеет перед ним. Покойный свекор, говорят, перед смертью поручил ему Митю.
Миша Прушанин сейчас в голове обоза. Перебрался с коня на телегу. Холопы устроили ему соломенную постель, покрыли попонами. Выезжали – хлопотал все сам, ночь не спал, а тут вона – сердце зашалило. Да, хвор стал. Старость не в радость! Куды што девалось – и сила и годы, – все прошло, прокатилося. Ноне старуху свою, покойницу, почасту чтой-то стал вспоминать и Новгород снится: то словно Ильмень шумит, то колоколы софийски, то иное что блазнит… Перед смертью, видать. Пото и на родину потянуло!
В Переяславле крепко уселся Миша, вотчина обихожена, лучше не нать! А и там, в Новом Городи, корень не вырван еще. Родовая хоромина на Прусской, прошали продать – не продал, и земли по Шелони… Младшего тудыкова посадить? Захочет ли еще?
На князя Митрия чуток в обиде Миша. Уж больно довóлит Гавриле Олексичу. Да все срыву, с маху… Нехорошо. Как обод гнешь: перегнешь – поломашь! А Гаврило еще и подзуживат… В Орду поехал… А и непочто! Самому бы Митрию, батюшке, нать до хана полки доправить, Менгу-Тимуру честь оказать, а там хоть кто… Хоть и мой Терентий мог бы… Не ниже Гаврилы сижу… Ладно, мне-то уж с Богом говорить, пущай как хотят тута… Он вздыхает. Шалит сердце, шалит! То забьется, то онемеет словно. Терентий подсказал:
– Батюшка, возок не подать ле?
Миша помотал головой.
– Не нать! Душно. Так полежу, олегчает… Княгиня как?
– Торопится, по Митрию Лексанычу соскучала!
Терентий улыбнулся, блеснул зубами. Отец поднял бровь, поглядел на сына искоса:
– Жалимая. Ты удоволь ей, Тереша.
– Гляжу, батюшка!
– Удоволь, удоволь!
Старик закрывает глаза. Телегу раскачивает на выбоинах, кони на бегу взмахивают хвостами, отгоняя мух, легкий ветерок задувает в лицо. Боярин задремывает и снова ему блазнит – словно Ильмень шумит вдалеке.
Всю первую половину пути до Дмитрова Федор мало что видел и еще меньше того понимал. Возчики, случалось, окликали его, но он не отвечал, не оборачивался, и его оставляли в покое. Добро, что кони сами шли, не отставая от переднего воза… Порою так становилось, что соскочил бы с телеги, бросил кнут и пешком пошел назад. Пал в ноги ейному отцу и остался. Насовсем, навсегда в деревне. Не нужно никаких Новгородов, лишь бы с нею! Пахать и сеять, и возить сено, и знать, что дома – она, что вечером – она, что в постели – она, кажный день, кажную ночь…
Вчера еще стояли у поскотины, говорили что-то. Нет, говорил он: обещал воротиться, уговаривал. Она молчала, кивала, шептала «воротись», и оба знали, что расстаются насовсем.
И сейчас Федор смотрел, изредка смаргивая, на спину коня, отмечал мерные удары конского хвоста по крупу то справа, то слева, и светлые слезы изредка скатывались у него по щекам. Чего себя обманывать! Не остался бы он, а остался – век бы жалел и стал уже не тот, что раньше. И она огрубела бы, а там – неурядицы, ругань, бедность, мерянская родня, для которой что там Новгород! А брат стал бы жалеть, изредка заезжать, брезгливо оглядывая избу… Брат, гляди, скоро монастырским ключником станет!
Нет, нельзя остаться, а сердце болит, и можно плакать, глядя на хвост коня, абы не видели люди, плакать и мечтать, как он воротится через много-много лет, богатый и старый, а она встретит и не узнает его. И она представляется все такою же молодой, тоненькой… Стоит у околицы, коротконосая, с широким мерянским лицом, с толстыми губами, с сочными губами, с вишневыми теплыми губами, которых ему больше не целовать…
Юность быстро и ранит и лечит. Еще не доехав до Дмитрова, Федор, стыдясь самого себя, почувствовал, как новые впечатления все чаще отвлекают его от горестных дум. Он уже порою словно издалека глядел на милый облик, оставшийся там, у околицы. Да и работа не очень-то давала времени для переживаний. Приходилось рубить дрова, распрягать и запрягать лошадей на дневках, водить их к водопою, задавать ячмень, перекладывать кладь. Старые возчики норовили проехаться на молодых, а Федор ни от чего не отказывался. За делами меньше думалось и вспоминалось меньше.
Дмитров Федор миновал еще словно в полусне, но чем ближе подвигались они к новгородскому рубежу, тем чаще задумывался он о том, что ожидало его впереди, и, кстати, о хлопотном поручении брата. Грикша раздобыл ветхую грамотку, удостоверявшую их права на отцову хоромину под Новгородом, и велел, ежели там что сохранилось, попытаться продать ли, выменять, – словом, так или иначе выручить какую ни то мзду. Грикша долго толковал Федору о новых новгородских уложеньях, запрещавших низовцам будто бы иметь земли на Новгородчине, и о том, как их можно обойти, но Федор вникал плохо, всецело занятый своими сердечными делами, и только теперь начинал запоздало припоминать братнины советы…
Дни сменяются днями. Острова леса то густеют, то вновь отступают от дороги, освобождая место взору. На росчистях переливаются зеленые хлеба, по голубым овсам, как по воде, пробегают тени. В придорожных деревушках неприметно соломенные кровли все чаще перемежаются дерновыми, и на бабах, что выходят из-под ладони поглядеть на обоз, уже иные кокошники, по-иному бегут узоры по нарукавьям, и речь становится тверже. Спросишь: «Кто тут живет?» – «Новогородчи», – скажут в ответ.
Утром над рекою плотный туман. Руку протянешь – не видать пальцев. В тумане глохнут звуки, сырость ползет за воротник. Но вот подымается солнце, светлое, неяркое, и туман начинает сваливаться, клубящимися столбами уползает в кусты, тает в воздухе, и все тогда – в сверкающей жемчужной росе. Лес полон птиц, в реке плещет рыба, лоси, почти не таясь, выходят на дорогу.
Ночевали обозники больше в шатрах, в избе в летнюю пору душно. Одолевали комары, сила их на Новгородской земле! Как ни заботливо затыкали вечером рядно у входа, все одно к утру пискунов набивался полон полог.
Медленно, неприметно для глаза, менялся лес. Гуще росла ель. Ольха да осина потеснили дубняк с орешником, травы словно становились ниже в перелесках, гуще рос верес да черничник в борах, и все-таки почти не чуялось разницы: дни за днями, а та же и та же земля!
Несколько раз бродами и паромом переправлялись через реки, и возчики не всегда умели сказать Федору, что за река. Ехали берегом Волги, в этих местах уже очень узкой. Наконец открылось озеро Серегер, с извилистыми красивыми берегами, в островах, на которых лес стоял словно по пояс в воде. Гуще пошли новгородские деревни и села, бойкие торговые рядки, и вот показались Молвотицы: городок из островерхих башен с бревенчатым стоячим частоколом между ними, битком набитый хлебными амбарами, лавками, клетями, кучами разного товару под легкими, крытыми дранью навесами, – весь в деловом кипении людей, что разгружали и нагружали подходившие обозы и караваны речных судов.
Лодьи, посланные Дмитрием из Новгорода, уже ожидали у причалов. Отселе часть обозных возвращалась назад, и Миша Прушанин распорядился нагрузить возы новгородским товаром, чтобы не гонять коней порожняком.
Перегружались два дня, наконец поплыли. Новгородские мужики ловко пихались шестами, обходя мели и перекаты на узкой речке Щеберихе, что впадала в Полу. Там уже все посажались на весла, и Федору пришлось, подзакусывая губу, напрячь все силы. Отставать от бывалых гребцов, да еще перед языкастыми новгородцами, он не хотел. Лодьи летели вниз по стрежню реки, а встречу, по-под берегом проходили – то бечевой, то пихаясь шестами – встречные караваны. Новгородские окликали своих, переговаривались на ходу:
– С Твери аль с Костромы?
– С Переяславля!
– Кого везете?
– Князь Митрия Лексаныча княги-и-ню!
– Мотри, не утопи-и-и!
– Не бои-и-сь! Пойма-а-аем!
«У нас бы так не стали кричать!» – думал Федор. Он уже с нетерпением ожидал, когда покажется ихний хваленый Ильмень, надеясь в душе, что он окажется не больше Клещина-озера.
Но вот берега отступили в последний раз, и за поворотом открылась равнина серой, словно бы нависшей, без конца и края воды. Небо заволоклось тучками, и серая рябь с отдельными белыми гребешками стала круто покачивать выбегающие на открытую воду лодьи. Весло то выпрыгивало, лишь задевая за кончики волн, то глубоко погружалось в воду. Прохладный ветер разом остудил горячее тело.
– Сиверко! – сказал кто-то из местных и деловито прикрикнул на Федора: – Ровней, ровней, парень, али впервой на воды?
У кормчего, тоже новгородца, разом острожело лицо. Ветер крепчал, все круче и круче становились волны, порою пенные брызги окатывали гребцов.
– Ильмень дани требоват! – сказал прежний новгородец, проходя бортом.
«Неужели кого бросят в воду?» – смятенно подумал Федор. Но дело оказалось проще. Водянику дали кусочек серебра в хлебном мякише и щепотку соли. Все это кормчий, дождавшись самой большой волны, с размаху кинул в воду. Часа полтора ждал Федор, выбиваясь из сил в споре с непослушным веслом, когда утихнет расходившийся водяной царь, и уже отчаивался, но наконец почуял, что волны стали вроде ровней и глуше ударять в борта и ветер ослабел.
– Послухал-таки! – переговаривались мужики. – Оногды и назадь швырнет! Кому-то так в личе бросил, мало глаза не выбило ему. Уж кормчий зрит, что дело не метно, заворотил лодью, ан туда луда, отколе взялась, их опружило, мало кто и уцелел той поры, и лодью всю в щепу расколотило…
Про себя Федор молился, чтобы все это скорей кончилось. Руки, стертые в кровь, горели и уже едва удерживали весло. К счастью, ветер все больше поворачивал, и вот уже на лодьях по знаку главного кормчего начали подымать паруса. Скоро и у них с тяжелым хлопаньем развернули серую толстину, сразу плотно наполнившуюся ветром; лодья резко и сильно накренилась и пошла, оставляя пенный след, ныряя и раскачиваясь, верхним набоем то и дело доставая воды.
Так они шли час за часом, одолевая серую, в пенных струях, сердитую стихию, и Федора то начинало мутить, то вдруг охватывал беспричинный восторг от тяжких ударов в борта, от мощных качаний лодьи, оттого, что Ильмень оказался и вправду великим и грозным, не обманув его давешних детских мечтаний.
Солнце низилось и начинал стихать ветер, когда над ухом прокричали:
– Перынь видна!
Федор поднялся, вытягивая шею. На желтом палевом небе четко выделился берег в соснах и что-то розовеющее среди красных закатных стволов. Перынь! Он никогда не слышал этого слова, но что-то заставило пересохнуть горло и побледнеть щеки. Перынь! Лодьи, все так же мерно качаясь на волнах, шли друг за другом туда, где меж берегов уже начал обозначаться разрыв, и там, за этим разрывом, устьем Волхова, ожидал его город детской мечты, отцова родина – Господин Великий Новгород.
Приставали под княжеским Городком, сам Новгород начинался дальше, и Федор с завистью глядел на смутно очерченные в светлой северной ночи стены, башни, верхи и купола близкого, но пока еще недостижимого чуда. Туда было версты три-четыре на глаз, и он аж тихо выл от нетерпения, когда чалились, когда выгружались, когда ужинали в княжой молодечной… Городок состоял из двух каменных церквей, большой и малой, да возвышенных княжеских хором, густо облепленных амбарами, клетями, гридницами, конюшнями, избами… Впрочем, что тут к чему, за ночною порой и усталостью было не рассмотреть. Долгая молодечная изба набилась битком. Ели жадно, почти не разговаривая. За озерный путь все вымотались вконец. Тут же и повалились спать по лавкам и на полу, на охапках соломы. Потушили светцы. Федя лежал на спине, чувствуя, как гудят руки, плечи, ноги, спина и как еще все качается и качается: кажется, даже пол молодечной тихонько покачивается под ним. Он еще подумал, что надо все-таки выйти, поглядеть хоть и в темноте на город, но, подумав так, только перевернулся на бок и уснул.
Второй день тоже был заполнен деловой суетой, и Федор рад был уже, когда удалось пристроиться гребцом на лодью, что шла в Юрьев монастырь. Пока боярин был у настоятеля, Федя сумел сбегать в собор, подивиться его торжественной строгой высоте, и оглядеть кельи, и даже высунуть нос за ограду. Запыхавшись, он подбежал к лодье как раз, когда боярин уже спускался к причалу. Миша Прушанин (это был он) оглядел разрумянившегося молодца:
– Впервой, что ли?
– Впервой! – ответил Федор, отзывчиво улыбаясь боярину. Тот подумал, поерзал, усаживаясь:
– Небось город охота поглядеть?
Федор так радостно и так откровенно кивнул, что и боярин и остальные гребцы рассмеялись. Миша ничего не сказал, но когда подъехали к городищенскому причалу и стали вылезать, боярин придержал Федю за плечо и, поискав глазами в толпе на берегу, окликнул:
– Терентий!
– Я, батюшка! – отозвался тот.
– Етого молодца возьми тоже!
И, подтолкнув радостного Федора по направлению к Терентию, Миша неторопливо прошествовал в гору.
Федор готов был плясать. Пришлось, однако, долго ждать, потом грузить лодью, потом снова ждать.
Наконец оба боярина спустились к причалу, и они тронулись. Лодья по течению шла ходко, и Федор, занося весло, каждый раз бросал мгновенный жадный взгляд на выраставший и близившийся Детинец. У него, как это часто бывало с ним, разделились руки и голова. Руки споро, с юношеской ухватистостью делали свое дело, гребли, выгружали, вытягивали лодью, а глаза, широко раскрытые, полные восторга, жадно пили окружающую его красоту и деловитое кипение сказочного города, пили и не могли напиться…