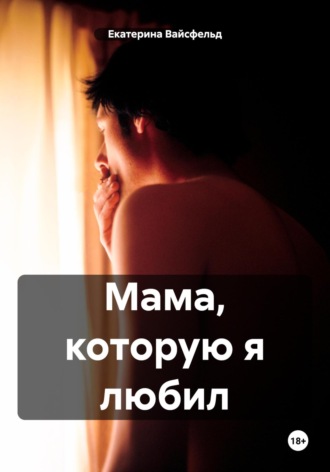
Полная версия
Мама, которую я любил

Екатерина Вайсфельд
Мама, которую я любил
Согласно исследованиям НИИ детства Российского детского фонда, каждый третий выпускник детского дома станет человеком без определённого места жительства, каждый пятый – преступником, а каждый десятый покончит жизнь самоубийством.
Научно-исследовательский институт детства Российского детского фонда
Это – тонкое, изящное, в чём-то талантливое автобиографическое повествование, написанное тобой в те времена, когда мы обрели друг друга, полюбили, а затем возненавидели.
С тех пор как я избавилась от всех гнетущих материальных благ, от всего хлама в жизни и завернулась во что-то наподобие тюремной робы, но глухого чёрного цвета, найдя в этом аскетическое удовольствие и решимость очиститься от мирского греха (всё, как ты и хотел), эта рукопись – единственно ценное (особенно поздние вставки, написанные тобой от руки), что я решила сохранить до дня моего Страшного суда. Хочется вспомнить, как всё было, и понять, почему всё произошло именно так…
Часть 1
1
Я попал в эту квартиру, когда мне было девять лет. Здесь я провёл лучшие моменты своей жизни. И самые горестные, проклятые минуты. Потому что любил сильнее смерти. Как подраненная птаха, бьющаяся в невидимое и твёрдое, как иридий, стекло. Выпавшая из гнезда, ещё не набравшаяся сил и опыта для дальнего перелёта, разбившая в кровь свои тоненькие и хрупкие лапки и почти без чувств упавшая наземь. Вот с кем бы я мог себя сравнить тогда за своё убогое птенцовое оперение, затвердевшее, почти омертвевшее, – как у голубя, попавшего в гудрон.
Зато у меня было большое человеческое сердце, которое билось, сотрясая рыхлую перегнойную землю. Оно билось так усердно, что прохожие шарахались в сторону, испугавшись невидимого источника звука, напоминавшего гул и вибрации проходящего глубоко под землёй поезда. Это был звук раскалывающейся тверди, в самом ядре которой лежал я. Никем не узнанный, брошенный, отданный на волю судьбы. Вымазанный, выпачканный, оборванный, вечно голодный. Маленький человек, с которым никто не хотел состоять в родстве.
При рождении я был отдан в детский дом. И не знал своих родителей. Поэтому единственной моей целью было сбежать. На свободу. На поиски счастья.
Сейчас, когда мне за двадцать, я могу посмотреть назад. И описать всё, имея опыт пережитого.
За стенами моей тюрьмы мне рисовался чудный мир. Мир детства, где давали всласть поесть мороженого, где круглые сутки крутили интересные фильмы, где разрешали гулять допоздна и где меня, возможно, ждала мама. Даже имя ей придумал – Лара. В детдоме приходилось всё время жить в страхе и прятаться в трюме воображаемого корабля, колыхавшегося на волнах, вечно попадавшего в бури, во время которых я каждый раз боялся, что он не выдержит, развалится на части, и я никогда не увижу маму. Но мне повезло.
В намеченный для себя день я сбежал. Я давно уже вынашивал план побега. Рисовал на бумаге странные изогнутые линии судьбы, используя красный, зелёный и синий цвета фломастеров. Неровные, но податливые линии жизни, сердца, головы сплетались, расходились, шли параллельно, обрывались и снова возобновлялись – и в конце превращались в знак бесконечности. В ночь перед побегом не спал. Сидел на подоконнике и разглядывал в темноте свои детские каракули, плотно прижимая лоб к окну. Я был так близорук, что по стеклу расползлась испарина. За ней на улице мерцал свет дальнего фонаря, но как только я вглядывался, его лучи рассеивались и растворялись в кромешной тьме. С пола через ступни к моей спине подкрадывался сквозняк. Где-то снова было настежь открытое окно.
Я всё время чего-то ждал. И это ожидание стало моим мироощущением, моим окружением, мелодией моего сердца. Надеждой и тоской по несбыточному пропитался сам воздух моей судьбы. В ожидании теплились дальние фонари жилых домов. В нём был великий смысл моей жизни и моего счастья…
И тут мне взгрустнулось. Слеза покатилась по щеке и бухнулась на мою пёструю карту жизни, размазав чёткие линии. Клякса, ошибка или, наоборот, счастливый знак? Я раненый пират, и меня ждёт мой деревянный корабль, обитый жестяными пластинами. Меня ждёт мостик и штурвал.
«Вперёд!» – скомандовал я и скомкал расплывшийся план побега. Кто-то закашлялся и перевернулся во сне. Я юркнул в постель, холодную и неуютную. Меня бил озноб от сквозняка. «Измените мою жизнь! Вам же под силу! Я прошу, умоляю, заклинаю!» – обращался я к неведомым богам. Позже согрелся, но не одеялом и не тревожным сном, а своим твёрдым намерением сбежать из этого дома, где стены окрашены в болезненно-зелёный цвет. Из дома, где старые скрипучие кровати, где переломаны все игрушки и кормят жидкой манкой с квадратным куском сливочного масла, растекающимся желтоватой жижей поверх сваренной крупы. Я не знал другой жизни, но знал одно: спасение за оградой. Там мир моих грёз.
Мог ли я трезво судить, что ждёт меня за стенами? Знал ли реальность более жестокую, чем моё пребывание в этой тюрьме, где нужно было защищаться от нанесённых обид, терпеть унижения? Где на меня орали воспитатели, где приходилось врать, подстраиваться, бояться? Здесь я всех ненавидел.
Наступил день под кодовым названием «катапульта». Крики воспитателей, скудный завтрак. Я уже не мог усидеть на месте. Крутился, елозил на стуле, моя нога плясала под столом. Было волнительно. Казалось, что каждый хитрый глаз знает, что я что-то задумал, поэтому я набирал полный рот каши, раздувал щёки и по-партизански молчал. Аппетита не было, но я впервые заглатывал еду насильственно жадно, с мыслью о том, что предстоит голодать. Три куска белого хлеба умыкнул в карман. Эх, ещё бы сосиску на дорожку, но по четвергам давали рыбу, и то только на ужин. Хлеб в кармане раскрошился, белый мякиш уже нещадно заветрился. «Ничего, и такое съем», – думал я. Надо бы ещё поныть, чтобы дали дополнительный кусок.
Что взять с собой? А что я имею ценного? Что я вообще имею здесь своего, кроме майки, штанов, носков и трусов? Они по праву мои, потому что я их ношу, сам складываю на стуле стопочкой перед сном (иначе можно получить оплеуху) и на них пристрочены бирки с моим именем. Нет ничего, что бы я мог взять с собой.
Я убегу, и они не сразу хватятся меня, в этом я уверен. Потом поднимут вой и бросятся вдогонку. Но я буду уже далеко. Мои ноги, быстрые, как ураганный ветер, обуты в зашнурованные истоптанные коричневые ботинки. Но я люблю свою обувку, потому что она тоже моя. Её подошва носит моё имя – Смельчак. Таким хочу быть: грустным, как Пьеро, и смелым, как Робин Гуд.
И вот я сбежал! И там, за пределами бледно-зелёных стен, встретил маму.
2
Я сидел на площади у фонтана. Дул сильный ветер. Прыгающие струйки воды то и дело обращались то в одну, то в другую сторону площади. Моросили по голому камню, брызгали на прохожих, дёргались и рассыпались. Я бы уже давно прыгнул от невиданной для мая-месяца жары в фонтан, устроил там драку с водой и вымок до самой нитки, а потом упал бы и дико захохотал. Но сил не было. Во рту ни крошки с самого утра, весь день на солнцепёке, весь день один. Впервые по-настоящему один. И вроде бы уже не так страшно, ведь за это время со мной так ничего и не случилось. Но всё же казалось, что что-то не так…
Помню, слез с лавки, подошёл к фонтану, сел перед ним на корточки, подставил ладошку под струю воды, потом вторую. Блаженная прохлада… Хотелось пить. Нагнулся, и закружилась голова. Просто голоден… Вернулся на скамейку и зажался в самый угол, подобрав под себя ноги. Меня, видимо, презирали, думали, что бездомный, и рядом никто не присаживался. Через какое-то время шум на площади стал затихать, мягкость приближающейся ночи убаюкивала. Живот, сжавшийся с голодухи, отпустило, голова перестала кружиться. Размытый сон тихим шагом подкрадывался на смену усталости. Я изредка вздрагивал и зябко ёжился. Было холодно. Неведомый сон о прекрасном вдруг превратился в кошмар. Меня кто-то тронул за плечо. Я мигом очнулся.
– Эй, парень, ты живой? – раздался женский голос.
Меня вырвали из самой глубины ночи.
– А-а-а!!! Не трогайте меня!!!
– Ты чего орёшь? Ночь же. Не ори!
Незнакомка отшатнулась. Я притих.
– Ты чей? Где твои родаки? Потерялся, что ли?
– Я один! Не трогай меня! Отойди… Мне нормально здесь, – добавил на тот случай, если эта идиотка решит допытываться дальше. И вжался в угол скамейки ещё сильнее.
– Ты бездомный, что ли? – с лёгким раздражением спросила она. – Чё-то не пойму.
– Детдомовский! – Эту фразу я произнёс с неожиданной для себя резкостью и даже гордостью. И тут же отвернулся, закусив нижнюю губу, чтобы не расхныкаться. Заскрёб ногтем по скамье.
– Сбежал, значит? Ну-ну, знакомо… Из какого детдома? Не из Егорьевского?
– Нет.
– Ясно. И как давно сбежал? Сколько уже тут торчишь?
Она шагнула ко мне.
– Недавно, только не трогайте меня! – торопливо предупредил я и притворно потянул носом, будто был простужен.
– Да не трогаю я тебя! Достал… Волнуюсь, может, голодный… Хочешь, накормлю?
– Нет! – выпалил я и тут же об этом пожалел. Прикрыв голову руками, отвернулся.
– Ну и чего ты выпендриваешься? Дальше так будешь сидеть, ждать, пока тебя попрошайничать заставят? Ты что, не знаешь, сколько здесь уродов шатается? Вот честно, поломают тебе ноги и пошлют меж машин ползать. Или на педофила наткнёшься, он тебя в задницу отымеет. Хочешь, да? Идём, говорю, накормлю, поспишь у меня, а завтра ментам тебя сдам.
– Нет! Лучше тут! Не хочу есть! – огрызнулся я. Между тем разбуженный желудок снова заныл, стало подташнивать, я испугался и подставил ладонь ко рту, сплёвывая голодную слюну.
Молодая женщина несколько секунд смотрела на меня, беспризорника, и вдруг расхохоталась:
– Посмотри на себя, крендель, ты с собой, что ли, решил покончить? Жизни не знаешь, сидишь здесь, от гордости аж поплохело. Да? Чё, блевать потянуло? Думаешь не знаю какого это, не жрамши целыми днями?
Я отвернулся. Когда же она, наконец, свалит?
– Ладно, давай серьёзно. Как тебя зовут?
– Дима, – сухо ответил я, заметив, как высоко над её головой в чёрном небе белым пятном светит луна.
– Я хорошая, Дим. Не трону тебя. Давай вставай… Не поверю, что жрать не хочешь.
Всё внутри кричало: «Да-да! Хочу… Ну, конечно же, хочу!»
– Нет, не хочу.
– Какой же упоротый мальчишка, – покачала она головой, оглядывая площадь. – Ну что мне с тобой делать? Тут, что ли, бросить? Или знаешь что, я прямо сейчас вызову сюда патруль.
Неожиданно она схватила меня за руку, чтобы не убежал.
– Отпустите! Убивают!.. – заорал я снова, пытаясь вырваться.
– Дурак, пропадёшь тут! К бомжам попадёшь, они тебя…
– Нет! Дура, отпусти меня!
– Знаю, сама была детдомовской, всё знаю! – выкрикнула она в тот момент, когда я сумел вырваться и ринулся бежать.
Последние слова зацепили. Я остановился и удивлённо оглянулся.
– Я тебе всё расскажу о себе. Не бойся.
Постояв полминуты, решил вернуться к скамейке. Незнакомка взяла меня за руку, и я покорно согласился идти, куда поведут.
3
C площади мы прошли в переулок, уже довольно пустынный, затем свернули налево в Сытинский тупик, который упирался в Палашёвский. Три ступеньки вниз – и вышли к небольшому жилому дому странной формы. Похоже, его левую часть отсекли топором. Она была глухая, с ободранным фасадом и как будто даже кривая. Я шёл, не поднимая глаз, стараясь не озираться по сторонам. Решил, что если со мной что-то случится, то это будет только моё счастье. Нам ещё в детдоме старшаки рассказывали истории о том, как детей воруют и продают в рабство или расчленяют на органы. Ни того ни другого я себе не представлял и считал эти байки тупыми страшилками. Нас специально пугали, чтобы мы от ужаса мочились в штаны. А сейчас подумалось: «А почему это не может быть правдой?»
Мы подошли к подъезду. Незнакомка обернулась. Окинула взглядом с головы до ног.
– Ты точно детдомовский? – строго спросила она.
– Да.
Она посмотрела ещё пристальнее, пытаясь в моём лице выявить лукавство, затем недоверчиво оглядела внутренний двор позади меня.
– Ладно, пошли, – приложила ключ к домофону. – У меня здесь квартира. Если вдруг в гости кто притащится, не обращай внимания. Тебя не тронут.
После этих слов я напрягся. Расчленяют на органы, насилуют, продают…
– Вообще никто не должен.
– Уф…
Мы вошли в маленький подъезд, где не было лифта, а на жилую площадку приходилось по одной квартире. Наверх вела крутая лестница. Дом казался обездоленным. Все жильцы давно спали. За их дверьми царила глубокая ночь, а одна, чёрная, была опечатана.
На третьем этаже моя спасительница остановилась и полезла в сумку. На пол упала связка ключей.
– Чёрт! – еле слышно произнесла она нагнувшись. Затем открыла дверь, и тёмный пугающий коридор встретил меня запахом чужого мира.
Я застыл в прихожей, боясь сделать следующий шаг. Хозяйка скинула туфли, положила сумку, прошла по коридору, включила свет в ближней комнате и позвала меня.
Там находилась кухня. От проёма до середины тянулась барная стойка, справа у окна стоял маленький низкий диван с красными декоративными подушками, рядом – стеллаж, набитый глянцевыми журналами, слева – шкафчики и матово поблёскивающая мойка. Везде был приглушённый свет.
– Ванная – прямо по коридору. Найдёшь? Кстати, забыла представиться – Регина, – сказала она, стоя ко мне спиной и рассматривая полки холодильника.
Ванная была маленькая, в самом дальнем углу квартиры, совмещённая с туалетом. Белый кафель, тёмно-синий пол, тусклое освещение. Под ногами мягкий ворсистый коврик. Я мыл руки с особой тщательностью, чтобы потянуть время. Сердце испуганно билось. Всё напоминало бредовый сон. Моментами я даже забывал дышать и чуть не терял сознание. Обратно почти бежал, стараясь не глядеть по сторонам, представляя, что у каждой стены притаились призраки. Когда вернулся на кухню, Регина указала на высокий барный стул. На него пришлось взбираться. На столе уже ждала еда и кружка горячего какао. Я сидел и смотрел на всё это, не решаясь прикоснуться без дозволения хозяйки.
– Давай лопай быстрее, а то я спать хочу, – сонно улыбнулась она.
Я схватил вилку и стал огромными порциями запихивать макароны в рот. Щёки раздувались, и Регина, наблюдая за мной, посмеивалась. Я ел быстро и жадно, при этом успевая отрывать взгляд от тарелки, чтобы рассмотреть свою спасительницу.
У неё были волнистые, тщательно уложенные волосы, усыпанные серебристыми блёстками. Густые ресницы, какие я только в мультиках видал. Сильно накрашенные глаза, которые смотрелись хищно под тонкими, высоко вздёрнутыми бровями. И красный напомаженный рот с двумя маленькими вампирскими зубками, сильно обнажавшимися при смехе. Доброты в этом лице было всего ничего, зато много сумрачной печали.
– Пойду постелю тебе. Будешь спать в моей гардеробной, – усмехнулась Регина. – Это комната. Честно. Просто я там свои наряды для выступлений храню. На диванчике поспишь, места хватит. А я у себя в спальне буду, за стеной.
Я молчал, в недоумении уставившись на неё сонными глазами.
В комнате, где Регина приготовила мне постель, было спокойно и хорошо, несмотря на горы вещей, набросанные как попало. Здесь же хранились и многочисленные коробки из-под обуви, с крышками и без. Некоторым туфлям на высоком каблуке коробки не досталось, и они парами стояли на полу. Платья, представлявшие собой непонятные полоски ткани, расшитые стразами, болтались на вешалках, как шёлковые платки. Другие наряды, скомканные, лежали на стульях, а то и под ними. Дверца шкафа была приоткрыта, и с неё свисали огромные боа из перьев. Тут же корсеты, пояса, ленты, чулки… Ещё на полу стояли чемоданы, чемоданчики, коробочки поменьше, а на столике с подсветкой была разбросана косметика. В таком огромном количестве, что на поверхности невозможно было найти место даже для кружки с какао.
В том возрасте я ещё не делал каких-либо выводов и не догадывался, что означают все эти яркие платья и блестящие тряпки. Для меня это был просто ворох вещей, которых чересчур много. В детдоме мне бы за такую неряшливость влетело. Поэтому, когда разделся, по привычке сложил свою одежду аккуратной стопочкой на полу (не посмев освободить себе стул от хозяйкиного барахла).
Уронив голову на подушку и накрывшись одеялом до самого носа, в ту же минуту уснул.
4
Дрых до обеда. Проснулся в странном состоянии. Так бывает, когда день и ночь путаются во временных границах. Первую минуту лежал почти не шевелясь, силясь вспомнить, где я и что со мной случилось. Затем стал озираться. Вчерашний день всплыл смутными воспоминаниями о побеге из детдома, о незнакомке, приютившей меня. Может, стоит свалить, пока не поздно? А то вдруг!..
Встал. С улицы из приоткрытого окна доносилась суета города, редкие громкие голоса прохожих внезапными выкриками долетали до третьего этажа. Я тихонечко подошёл к закрытой двери и прислушался. Где-то лилась вода. Как же мне было страшно приоткрыть эту дверь, разделявшую две жизни: мою и жизнь той молодой женщины, которая спасла меня от неминуемой гибели! Я, наверное, так бы и стоял в оцепенении: десять минут, тридцать, час… Если бы не сильное желание попасть в туалет. Пришлось выходить из «укрытия».
Уже взялся за ручку, но в эту секунду услышал, как кто-то идёт по коридору. В испуге кинулся на диван и залез обратно под одеяло, укутавшись по самую макушку. Хотел притвориться, будто ещё сплю, но, пока бежал и укладывался, наделал столько шума, что уловка провалилась.
– Так, Димасик, – сказала Регина командным голосом, появившись в дверях. – Пора вставать. Вот честно, и так дрыхнешь больше положенного. Мне на работу надо собираться. И тебя ещё домой возвращать.
Я резко скинул одеяло с головы.
– Не хочу домой! Я бездомный! – прогорланил я. Потом издал испуганное «ой» и снова спрятался в нору.
– Тебе сколько лет?
– Девять, – ответил я из-под одеяла.
– Ничего. Ещё столько же потерпи и свалишь оттуда. А может, кто-нибудь к себе заберёт.
Я молчал.
– Так ты как туда попал? Давно там?
– Можно мне в туалет? – спросил я после недолгой паузы.
– Валяй.
Но я продолжил лежать.
– Что, стесняешься, что ли? – послышался смешок.
Я бодро скинул одеяло, попытался изобразить улыбку. Получилось кривенько.
– Ну и рожу скорчил! Ладно, – махнула рукой Регина и вышла из комнаты. – На кухню потом топай.
Сегодня Лара была другой. В махровом халате, без косметики, вся такая домашняя. Своя. Как старшая сестра. Она была моложе наших воспитателей, намного моложе. Лара… Я назвал её так, потому что это было моё самое любимое имя. Из фильма про расхитительницу гробниц.
Придя на кухню, залез на вчерашний уродский стул и размышлял, куда бы себя деть. Я в чужом доме, со взрослым человеком, которого не знаю (слава богу, не с мужиком, хотя педофилами, наверное, бывают и тётки?). Ищу взглядом что-нибудь интересное, чем можно себя занять и больше не трусить, не придумывать байки, не вспоминать страшилки. Вот, к примеру, бокалы на полке за стеклом, всего семь штук. А вон деревянный ящик на стене. С множеством отделений. В нём стоят тридцать четыре пузырька с лаком для ногтей. На полу у холодильника пылятся две пустые бутылки… Из-под чего?
– Налетай, – пригласила Регина, поставив передо мной тарелку с завтраком. – Какао налить?
– Спасибо, можно, – скромно ответил я, косясь в тарелку и разглядывая, что мне там положили.
Регина сделала мне какао, себе – кофе и тоже присела. Я решил вести себя ещё скромнее: убрал локти со стола, вытер салфеткой рот.
– Знаешь, когда я была мелкой, отец притащил с улицы котёнка. Он был такой дохленький, рыженький. Тут же забился под кровать и до самой ночи не вылазил. Даже пожрать. Молоко ему ставили – ни гу-гу. А ночью начал пищать, жалобно так, спать не давал. Я, наверное, больше всех за него переживала, боялась, что с голоду подохнет. Сутки он не ел у нас. Таня уже давай орать на отца: «Зачем ты его сюда приволок?!» Думали, хана ему. Не жрёт, прячется… Наверное, болен был. Папаша решил его обратно отнести. На помойку. Я реву: «Не надо, я его выхожу!» Короче… к чему я тебе всё это рассказываю? Прикинь, этот засранец выжил. Всё нормально было. Сначала скромнягой заделался. Спал под кроватью, по квартире перемещался как мышь, короткими перебежками. Потом всё смелее и смелее. А потом вырос в такого наглеца! С кровати не согнать. Со мной всегда дрых, у подушечки, царская морда. Я его Клопом назвала, или Клоповским. Потому что вечно вонючий был. Мы его не кастрировали. В общем, вот честно, ты мне сейчас напомнил моего кота, когда он мелким был. Такой же скромняга. А потом чего ждать? – заключила она с хищной улыбкой. Снова показались её маленькие клычки и печальная тень первых морщинок.
Я молчал. Думал: «Ни фига себе, клопом меня ещё никто не называл! Вонючий, говорит…»
– Испуганный, скромный, жалкий. Хорошенький такой… Жаль, не могу тебя усыновить.
Я подавился какао и, откашливаясь, спросил:
– Ты говорила, что тоже из детдома?
– Да, но я там не с детства была. В десять лет загремела. Постучать?.. У меня мама умерла, а папаша придурком оказался. Танька – его вторая жена, конченая сучка. Она мне не мать была.
– А-а… – протянул я, раскрасневшись от кашля.
– Папаша меня вроде любил. Наверное… А я – бабулю… Так себе время было. Девяностые. – Регина будто задумалась, сидя на высоком стуле, закинув ногу на ногу. Её взгляд упёрся в пол, прошёл сквозь него и где-то там нащупал картины прошлого.
Я молчал. Через пару минут Регина очнулась и ударила ладонью по столешнице:
– Валяй, теперь твоя очередь! Поговорим за жизнь. Только честно. Как сбежал, как сюда добрался?
– Я после завтрака сбежал, когда у нас уроки начались. Когда мы все вместе собираемся, то больше смотрят за теми, кто в классе, а я отпросился в туалет. Там через окно выбрался на крышу первого этажа, спрыгнул вниз, пролез через дыру в заборе, потом долго шёл. Я, кстати, не знал, смогу ли спрыгнуть, там высоко, у нас только старшаки там вылазят.
– Ого.
– Да! – обрадовался я. – Потом оказался на остановке, сел в автобус, вышел, где много народу сходило. Там метро и поезда ещё стучали, – я щедро жестикулировал. – Сел в метро и вышел на остановке, когда Пушкина услышал. Я его хорошо знаю, мы в прошлом году сказку по нему ставили. – И замолчал, сосредоточившись на кружке с какао.
– Ясно. И что, не страшно было?
– Ну так…
– Ну а зачем вообще сбежал? Маму решил поискать?
– Нет. Не знаю… – ответил я и опустил голову. Взгрустнулось.
– Ты, скорее всего, в Люберцах был.
– Да! – подтвердил я радостно.
– Это далеко, я тебя туда не повезу. Сюда ментов вызову.
«Не хочу… Не хочу…» – крутилось в башке.
– А про свою маму что-нибудь знаешь?
– Нет.
– Может, оно и лучше. – Регина уставилась в окно. На небе собиралась гроза. Повеяло прохладой.
– Почему? – глухо отозвался я.
– По кочану! Потому что иногда лучше не лезть туда, куда не просят! Ты же не знаешь, почему она тебя кинула? Чаще это нарики или алкашки, реже – нормальные девчата, но фиг знает, по каким обстоятельствам детьми разбрасываются. Может, нищенки, денег заработать не могут, или изнасилованные, а абортироваться страшно. Да блин! Лучше не знать правды, вот честно. Никогда не простишь. Всю жизнь будешь ненавидеть.
Я внимательно слушал.
– Но, если прям очень хочешь найти свою маму, тебе лучше в детдоме торчать. Так у тебя больше шансов, что она тебя сама отыщет. Может, и не родная. Хуже, если приёмная. У них терпения нет с чужими детьми возиться. Берут, потом истерят. А то и прибить могут. Мне вот некого было ждать, я знала, что мамы нет, – закончила Регина, тяжко вздохнув.
Повисло молчание. Лара пила кофе. Я сидел над пустой кружкой. И едва не плакал. За окном громыхнуло.
– Всё равно не хочу возвращаться.
– Надо, чтобы тебя кто-нибудь хороший усыновил.
– Вы?.. Я бы хотел!
Регина оторопела. Её глаза расширились, заблестели, будто в них игривым огоньком отразился свет фонаря.
– Щаз-з-з! Мне работа не позволяет. Я сама себе не принадлежу.
Снова пауза. Как в спектакле. Громыхнуло во второй раз. Окно всё ещё было настежь.
– Ладно, хрен с тобой, оставайся ещё на денёк. А то мне скучно. А послезавтра придётся тебя ментам сдать. Они, скорее всего, тебя уже ищут.
Сильный порыв ветра скинул с подоконника пепельницу с окурками. За окном поднялся шум, и стена дождя с рёвом Ниагарского водопада обрушилась на столицу. Майская гроза прошла быстро, оставив после себя прохладу мокрого асфальта, свежесть молодой, но скудной зелени вечно болеющих в центре города деревьев и сырые крыши соседних домов.




