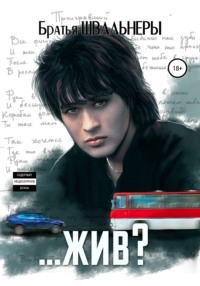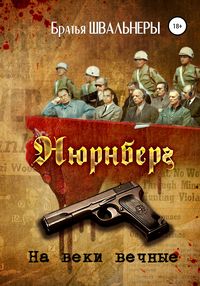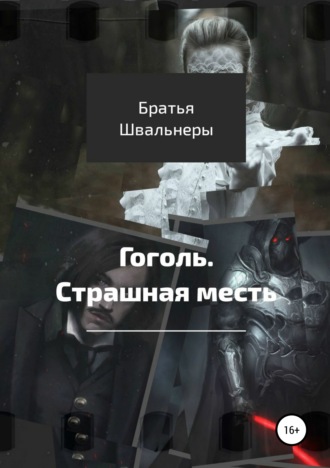
Полная версия
Гоголь. Страшная месть

Глава первая. Лики любви
Май 1845 года, Санкт-Петербург
Весна приходила в Петербург медленно и нехотя, все время сталкиваясь с упорным нежеланием холодной и промозглой зимы расставаться с не менее холодным и промозглым городом, стоящим на болотах, и все же к маю-месяцу, сопровождаясь грохотом гроз и потоками ливней, более или менее вошла в свои права. Однако, промозглой слякоти небесных излияний не суждено было долго грязью развозиться по земле – ледяные ветры и не менее ледяная почва быстро сделали так, что все под ногами вымерзло, оставив столичные мостовые в их первозданном и чистом виде.
Николай Васильевич Гоголь и его друг, юный адъютант Его Императорского Высочества Иосиф Виельгорский накануне вечером были гостями на балу к княгини Зинаиды Волконской, а потому поутру проснулись с тяжелыми головами и в угнетенном состоянии духа. Обед в ресторане «Данонъ» несколько улучшил их мировосприятие –и поправив здоровье неплохим шардоне, поданным с лабарданом, а также легким супом, приятели решили прогуляться по еще прохладному, но уже вполне весеннему городу, дабы освежить затуманенные с вечера головы воздушными массами, что наплывали с берегов Невы.
Разница в возрасте между приятелями составляла почти 10 лет, однако, была не особо заметна – оба бледные, высокие, аскетичного телосложения и с тонкими усиками они походили на братьев, один из которых был чуть старше, а другой чуть младше. Разве что одна деталь во внешности при ближайшем рассмотрении выдавала расхождение – при неправильных чертах лица у Гоголя его приятель являл собой эталон мужской красоты. Аккуратные, тонкие и благородные свойства его внешности делали его притягательным и сразу говорили малознакомым людям, что перед ними человек дворянских кровей. Так и было – Виельгорский был сыном дворянина, музыканта и музыкального критика, которого знала и уважала вся столица, предоставляя своему бомонду исключительное право бывать на устраиваемых им суаре и вечеринках, чтобы блеснуть собой и покрасоваться на других. Бывал там и Гоголь, хотя дом Виельгорских стал для него давным-давно почти своим собственным, и потому и он, и юный друг его предпочитали проводить время на балах иных светских львов и львиц, недостатка в которых Санкт-Петербург не знал никогда. Так случилось и вчера, когда они вдвоем посетили их старинную приятельницу, решившую отпраздновать долгожданный приход весны пышными и роскошными ассамблеями, танцами и вином.
–Вчера, на балу у Волконской ты, кажется, оставил автограф в журнале? – спросил у друга Виельгорский, когда они поравнялись с памятником Петру. Гоголь улыбнулся – затронутая Виельгорским тема была необычайно приятна ему.
–И это не просто автограф. Это несколько строк из «Ночей на вилле».
«Ночи на вилле» – так называлась повесть Гоголя, посвященная Виельгорскому. От природы больной и последнее время все чаще страдающий приступами своего, крайне истощающего организм, заболевания, Виельгорский несколько недель тому назад оказался практически при смерти в загородном доме Волконской, который в узком кругу приятелей именовался «виллой». Тогда одно только присутствие Гоголя, его еженощные бдения и старания у постели больного смогли облегчить страдания и принести то, что болезнь на какое-то время отступила, оставив юношу в покое. Впечатленный чудесным спасением друга, Гоголь написал о своих чувствах и мыслях в небольшой повести, посвященной Иосифу Михайловичу. Строки из нее вчера украсили альбом хозяйки бала, которой друзья обязаны были своим знакомством.
–И, конечно, обо мне?
–Вся повесть о тебе, разве могут быть там строки о ком-то другом?
–Господи, именно поэтому, как выясняется, вчера все присутствующие смотрели на меня такими странными взглядами.
–Что ты имеешь в виду?
–Ты лучше у них спроси, что они имеют в виду, когда заговорщицки подмигивают при виде нас, подобострастно улыбаются и поговаривают о неких «особенных» отношениях, от природы не свойственных мужчинам, подразумевая нас с тобой…
–Глупости и беспримерные по абсурдности светские сплетни! Неужели ты мало слышал их на своем коротком веку, чтобы всерьез пускаться в обсуждения или комментарии относительно словоблудия зевак?
–Я разделяю твою точку зрения, но все-таки тебе пора жениться.
–Уж не затем ли, чтобы избежать перемывания костей в присутствии сиятельных княгинь?
–Конечно, нет.
–А зачем тогда?
–Послушай, Николя, сколько тебе нынче лет?
–Тридцать шесть.
–Так. А сколько было обожаемому тобой Пушкину, когда он в расцвете лет волею случая покинул эту бренную землю, прервав течение таланта, данного ему свыше, который мог бы еще сослужить добрую службу всем нам, его почитателям?
–Кажется, тридцать семь.
–Вот. Не хочешь ли ты оставить нас без твоего наследника, без продолжателя дела и рода великого Гоголя-Яновского?
–Глупости, – отмахнулся Гоголь. – Еще Шекспир говорил, что на детях великих природа отдыхает.
–Пусть так, но классик твоего уровня, писатель мировой величины все же не имеет права уйти по-английски.
–Намекаешь, что я скоро умру?
–Ничуть. Просто сейчас – самое подходящее для тебя как для мужчины время подумать о семье и детях. Куда тянуть? Ты же сам отлично прописал в своей «Женитьбе», что, как только мужчине стукнет сорок, всякое желание жениться, продолжать род и вообще быть социально полезным отпадает? Не с тем ли столкнулся твой Подколесин?
Гоголь смущенно опустил взгляд и улыбнулся в усы.
–Так, молодой человек, вижу, что творчество мое вы знаете весьма сносно. И кого же посватаете мне в подруги жизни?
–Конечно, господину писателю, превзошедшему меня по разуму и по возрасту, виднее, но вот моя сестра… кхм… – Виельгорский нарочито кашлянул в кулак. – Давеча слала вам привет и горячие объятия, сожалея, что по болезни не смогла вчера посетить бал у Волконской.
–Аня?
Упоминание имени сестры Виельгорского рождало у Гоголя едва ли не более теплые эмоции, чем разговоры о нем самом. Он горячо любил эту юную, чистую и прекрасную во всех отношениях девушку, и оттого, наверное, больше не хотел портить ее жизнь и судьбу своим в ней присутствием. В данном случае справедливо было сказать, что Гоголю и хотелось, и кололось.
–Она.
–Она достойная, прекрасная, удивительная девушка…
–Ну так что ж?
–И именно потому я уверен, что я ей не пара. Луиза никогда не даст своего согласия на наш брак. 1
–Пустое! Маменька обожает тебя и все, что ты делаешь.
–Правнучка Бирона допустит брак дочери с безродным писакой?
–Это ты-то безродный?! – справедливо возмутился Иосиф. – Что слышу я?! С каких это пор потомки рода Яновских стали так критичны к себе?
–Да, но потомок славного имени оказался уродом, без которого, как известно, не обходится ни одна семья. Меня не жалуют при дворе, и ты как аншеф-адъютант Наследника это знаешь как никто другой…
–И это пустое. Я лично представлю тебя Наследнику, вы познакомитесь, сойдетесь, и уверяю – все эти недоговоренности как ветром сдует. Он значительно отличается от отца, он стоит на уровне прогрессивных идей и открыт для общества людей хороших и достойных.
–А я, по-твоему, хорош и достоин?
–Как по-моему, так ты просто ангел.
–Полно…
–Ну так что? Принимаешь мое приглашение завтра составить нам компанию за обедом?
–Коли так, то охотно.
–Хотя, впрочем, в выборе тебя никто не ограничивает. Кажется, вчера на балу была еще одна весомая претендентка на твое внимание или даже на что-то большее?
–О ком ты?
–О Хомяковой.
–Катя? Ну что ты, она ведь замужем, и мы просто друзья.
–Господин писатель все еще верит в сказки о дружбе между мужчиной и женщиной? Занятно. Хотя, впрочем, ты-то ей, быть может, и друг, а вот она смотрит на тебя совсем даже иначе.
–Ты заметил?
–Не заметит такой откровенности только слепой.
Екатерина Хомякова была сестрой поэта Николая Языкова, давнего друга Гоголя, и знала писателя едва ли не со своих детских лет. Фривольная и даже распутная юность поэта теперь дала всходы – он оказался сражен тяжелой болезнью, нейросифилисом, и часто бывал прикован к постели. Не обремененный обязательствами Гоголь чувствовал свою обязанность проводить с больным много времени – не меньше его проводила с ним сестра, Екатерина, жена писателя Хомякова. Во время этих встреч – тут Виельгорский был прав – Гоголь действительно стал ловить на себе взгляды этой прекрасной и даже роковой женщины, но никак не мог ответить на них взаимностью, считая ее действия ошибкой и не будучи не в силах переступить врожденную порядочность.
–Перестань, и слушать ничего не хочу.
–Значит, дело сделано, – удовлетворенно потер руками Иосиф. – На обед я тебя заманил, и поручение сестры можно считать исполненным?
Гоголь улыбнулся детской наивности и находчивости друга, приобнял его за плечи, и они продолжили шествие по мостовой, насквозь продуваемые невскими ветрами.
В доме же той, о которой приятели несколько минут назад говорили – Екатерины Хомяковой – в эти минуты происходил близкий по смыслу разговор, невольными героями которого стали оба.
–Ах, Алексис, – говорила супругу Екатерина Михайловна, – как жаль, что твое нездоровье не позволило тебе вчера посетить бал у Волконской, это было что-то потрясающее!
Не желавшая до последнего вступать в свои права столичная весна сыграла с поэтом злую шутку – он простудился, и не принял участие в давешней светской вечеринке. Меж тем, простуда была очень легкой и практически совсем уже отступила, а причина его уклонения от бала крылась в его собственном нежелании посещать суаре и встречаться с его завсегдатаями. Не воспользоваться же сиюминутным недомоганием, чтобы оправдать свое отсутствие на балу, было бы для предпочитавшего тишину и покой поэта преступлением.
–И что же потрясающего ты видишь в подобных встречах?
–Ну главным образом людей, конечно. Вчера вот, например, Николя с Иосифом там встретились… Ах, Николя, он просто прекрасен! Устроил нечто вроде благотворительных чтений своего «Ревизора» в пользу бедных! Местные нувориши собрали неплохую кассу, так что он не лишний раз подчеркнул свою полезность и значимость для общества. И конечно, свой тонкий и блистательный ум. Ах, как все же замечательно прописаны в его бессмертной пьесе образы наших заворовавшихся чиновников и глупейших купцов! Ну кто еще…
–А с кем, ты говоришь, он был там? – прервал поток славословия Хомяков. – С Виельгорским?
–Да, Иосиф хоть и после болезни, а все же держался очень даже comme il faut.
–И чего они постоянно ходят вместе?
–Друзья. Удивительные, поистине замечательные друзья. Такого друга, коим Николенька является для Иосифа, можно пожелать всякому. Так всюду вместе и ходят – куда один, туда и другой плетется. Говорят, их сам черт связал веревочкой…2 – супруга поэта смеялась, но самому ему было не до смеха. Его давно беспокоило резко возросшее внимание жены к Гоголю, которое, хоть и объяснялось с ее стороны давним знакомством и дружеским расположением, что они питали друг к другу, по мнению поэта, уже давно переходило грани дозволенного. С другой стороны, в сложившейся ситуации он был отчасти виноват сам – именно его давешнее нежелание посетить дом Волконской спровоцировало бурю в стакане воды, которой было бы не избежать, если бы не классическое для сцены появление третьего лица.
Двери гостиной распахнулись, и на пороге появился брат Екатерины Михайловны, поэт Николай Языков, приятель Гоголя, ставший некогда поводом для их знакомства.
–Здравствуй, друг мой! Все ли ты здоров? Вчера на балу у Волконской, говорят, не было тебя? – сходу осведомился гость.
–Благодарю, Николай, здоров, – сухо отвечал Хомяков, будто бы обижавшийся на Языкова за то, что тот познакомил супругу с Гоголем. – А на балу меня не было потому только, что я терпеть не могу подобных мероприятий.
–Ну вот вам, – всплеснула руками Екатерина Михайловна. – Мне говорит одно, а на деле выходит своем другое. Как прикажешь тебя понимать?
–Полагаю, Катерине скучно было без тебя. Мог бы проявить немного такта, – едко поддел приятеля Языков.
–А мне кажется иначе. Там было кому ее развлекать.
–Кому же это?
–Гоголю, например. Кстати, а почему он не носит своей настоящей фамилии? Воля ваша, когда человек скрывает свое происхождение, то ему и впрямь есть, чего стыдиться или утаивать…
–Как знать, как знать, только вопрос не ко мне, – отмолчался Языков. – Что же до посторонних мужчин, то я не думаю, чтобы они сильно занимали голову очаровательной сестры моей, ты не прав.
–Полно вам о пустяках, господа, – увернулась Хомякова, понявшая, к чему клонится разговор. – Николенька, верно, зашел по приглашению к обеду, а мы его голодом морим. Дарья, подавай обед!..
Несколько минут спустя все трое сидели за роскошно сервированным обеденным столом. К столу были поданы домашнее вино, корюшка, русские щи, бараний бок с гречневой кашей, поросенок в сметане и хлеб. Вино несколько расслабило вдруг напрягшуюся обстановку, и Хомяков забылся относительно тех комплиментов, что отвешивала его супруга в адрес Гоголя, чем задевала его самолюбие. Ему даже стало как-то стыдно перед отсутствующим здесь писателем, и он попытался сгладить дерзость допущенных в его отношении мыслей комплиментом, который Языков наверняка передаст своему другу при первой встрече.
–Однако же, Гоголь прекрасный писатель, – вдруг некстати разразился он.
–С чего ты опять? – подняла глаза на него Екатерина.
–Сказал, как думал.
–Да, – убедившись в покойном настрое мужа, поспешила поддержать Хомякова супруга. – Это правда. А уж какой он великолепный чтец! Слышали бы вы, друзья мои, как славно вчера он читал «Ревизора». Что ни говори, а я считаю, что в писателе важно не только, как он пишет, а еще и как воспринимает это публика – а для этого он просто обязан быть хорошим чтецом, не так ли?! У него же все, за что бы он ни брался, получается просто великолепно. Скажи, Николенька?!
–Полно, по-моему, ты преувеличиваешь. Писатель он действительно прекрасный, но вовсе необязательно ему актерствовать! И промахов в жизни у него, как у всякого человека, случалось предостаточно, о чем я как его друг могу с уверенностью свидетельствовать. Да и тебе многое известно…
–Однако, лучше него нет среди наших современников словотворца, – не унималась Екатерина Михайловна. – С ним может сравниться разве что Пушкин, только он ушел от нас, а Николенька жив и дай ему Бог здравствовать вечно! – Сказав это, она осенила себя крестным знамением и посмотрела куда-то вдаль, как будто перед глазами ее была не стена, а даль с картины Репина. Такая откровенность вновь возвратила истощенный болезнью ум супруга ее к старым обидам, и бросилась в глаза ее брату.
–Ну полно. Ты уж вовсе говоришь о нем как о святом…
–Как знать, может, так оно и есть? Помнишь, когда Иосиф болел и почти умирал на вилле у Волконской, он буквально сутками не отходил от его постели, и одним своим присутствием фактически спас ему жизнь!
Языков рассмеялся:
–Жизнь ему спасла медицина, к которой Николай Васильевич, при всем моем безграничном к нему уважении не имеет отношения.
–Как тебе не стыдно, Николя?! Ведь он ухаживал и за тобой при обострениях твоего недуга…
Языков после таких слов насупился и продолжал:
–Я благодарен ему. А вот тебе следовало бы быть посдержаннее в словах относительно мужчин, тебе посторонних, в присутствии твоего законного супруга! Ты должна думать не только о себе и понимать, соответственно, что слова эти могут быть криво истолковано и даже могут обидеть слушателя. За такое в памятные времена на дуэлях стрелялись!
–Ну уж, пустяки, – демонстративно отмахнулась Хомякова от наставлений брата. – Кто избрал своей участью обижаться словами, как говорил Белинский, тот пусть обижается.3 А вообще это удел горничных…
–Ты права, – улыбнувшись, поддержал супругу Хомяков. – Да и потом, о какой причине для обид может идти речь, ежели Гоголя никто и ничто не интересует, кроме Виельгорского и ухаживаний за ним, которые не мне одному кажутся подозрительными и говорящими о наличии некоей тайны, которая, вполне возможно, и заставляет нашего общего друга скрывать свое истинное происхождение!
Буря в стакане воды все же разыгралась. Хомяков лукавил, когда говорил, что высказывания жены о Гоголе, до назойливости частые и всегда ванильные, не задевают его разума и чувств. Если бы все было так, как он сказал, то не следовало бы ему пускаться в подобные оскорбления. Сказанное произвело эффект разорвавшейся бомбы – присутствующие обомлели. Верно, Хомяков готовился к такому выпаду, потому как сказать такое в запале просто невозможно.
–Как… как ты смеешь?! – негодовала супруга. – Да за такие слова Николаю Васильевичу следовало бы бросить тебе перчатку!
–Полноте, сестрица, не горячись, – попытался урезонить сестру Языков. – Не только Алексей говорит о странных, мягко говоря, отношениях Гоголя с Виельгорским, об этом судачит вся столица. Ты и сама вчера видела, как они тяготеют друг к другу. О чем это еще может свидетельствовать?
–Кроме как о дружеских чувствах и симпатии в высшем смысле, какая свойственна людям утонченным и изысканным, ни о чем!
–Хотя, я лично был свидетелем жизненной драмы Гоголя, которая случилась с ним совсем недавно на почве любви его к одной особе, что проживала в Полтавской губернии. С его слов, разумеется, но мне точно известно, что чувства его к ней были в высшей степени, и потому кроме как слухами назвать то, что произнес Алексей, я не могу. Меж тем, обязуюсь скрывать услышанное втайне, дабы не рассорить пустяком добрых друзей своих! – улыбнулся Языков, вставая из-за стола и обнимая Хомякова за плечи.
–А я нет, – отбросила салфетку сестра. – При первой же встрече я расскажу Гоголю о низком предположении, сделанном моим мужем и достойным поэтом, никак не отвечающем высоким идеалам поэзии и вообще жизни в обществе! И пусть случай решит ваш спор.
Закончив фразу, она в расстроенных чувствах покинула обеденный зал. Языков пожал плечами и вполголоса произнес:
–Зря ты это, конечно.
–Да что мне до вашего Гоголя?! – вспылил было хозяин дома, но гость его остановил:
–Да разве в Гоголе дело?! Я вижу твое к нему отношение и не могу не знать, что к сестре моей ты испытываешь самую горячую любовь. Но зная ее нрав, спешу упредить тебя: такими высказываниями ты лишь отдалишься от объекта своего обожания, который так ревностно защищаешь от нападок того, кто вовсе ни сном, ни духом.
–Так уж и ни сном…
–Что ты имеешь в виду?
–Ты думаешь, почему я не пошел вчера на бал? Потому только, что знаю: Гоголь давно уже отвечает ей взаимностью. Как встретятся, так не отходят друг от друга ни на минуту! А моего присутствия и не замечают вовсе.
–Тогда вдвойне не пойму, почему было не пойти вчера к Волконской и не заявить ему прямо в лицо своей неудовольствие?!
–А к чему это приведет? Тогда станут видеться тайно, а из таких встреч, как правило, не выходит для замужних дам ничего хорошего. Пусть лучше уж как есть, а только лишний раз расстраивать свое здоровье мне не улыбается…
Сказанное Хомяковым насторожило его приятеля. Сложные отношения Гоголя с женщинами во многом объяснялись тайной его происхождения – той самой тайной, что скрывал он за псевдонимом, и которая была хорошо известна Языкову, состоявшему, как и Гоголь, в ряду членов секты «Мученики ада». У истоков ее стояло самое настоящее зло, имя которому было Вий4…
…Недаром говорят, что мысль материальна. Стоило минуточкой доли Языкову обратиться мысленным взором своим к ужасающему всаднику, как вечером того же дня в далекой Полтавской губернии, в Сорочинском уезде, на вершине большой горы, названной в народе Диканькой, собралось много женщин. Все как одна одеты были во все белое и стояли вкруг разведенного в середине поляны, что венчала вершину горы, высокого костра. Непонятные темные словеса вырывались из уст их, а возле самого огневища пыталась вырваться из пут молодая девица с затянутым кляпом ртом. Ужас происходящего и осознание того, что далее с ней случится нечто еще более страшное, выбивал из нее последние остатки разума. Голоса женщин нарастали и обретали все большую силу, а костер взмывал и взмывал ввысь, так высоко, что, казалось, доставал до крон самых больших вековых деревьев, что росли здесь в большом количестве. Скоро ветки их стали хрустеть и ломаться – так не бывало даже при сильных порывах ветра. Словно стая медведей пробиралась из чащи леса на поляну, влекомая зовом непонятных славословий.
Наконец перед глазами обезумевшей от страха девицы предстал он. Огромная черная лошадь, как будто огнедышащая, с красными сверкающими глазами, несла на спине своей огромного, нечеловеческого роста всадника. Одет он был в древние латы, исписанные на латыни, из-под которых виднелась белая плащаница – подобие той, что носили во времена Пилата Понтийского. На голове его был башлык такой же кипельно белой материи, из-под которого совсем не видно было его лица. Наверное, оно и к лучшему – ведь встреться человеком лицом к лицу со своей смертью, с абсолютным вселенским злом, то можно сразу отдать Богу душу. А душа девицы в тот вечер нужна была всаднику.
Рука его – а вернее, кость с ошметками кровоточащего мяса, – сжимала в руке гнутый сатанинский ятаган, какие носили турецкие янычары да ляхи, чьи нашествия навсегда запомнит Полтавщина. Замерли голоса, когда он вознес его над трепыхавшейся в последних отчаянных попытках освободиться дворовой девкой, а потом резко обрушил на нее, разрубая невинное тело пополам. Кровь ее стекла по проделанному в лежаке – большой, грубо обтесанной доске – желобу в стальной сосуд, что стоял неподалеку. Дождавшись, когда части тела посинеют, оставшись без живительной влаги, всадник взвалит убитую в седло и унесется с бешеной скоростью туда, откуда только что пришел – в самую пучину ада.
Глава вторая. Петербургские тайны
Обратную дорогу из дома Хомякова Языков проделал буквально полугалопом. В голове его беспрестанно крутились сказанные сестрой слова, он сопоставлял все, что засвидетельствовал сейчас в доме и то, что услышал несколько недель назад от метавшегося в горячке по съемной квартире Гоголя, который не так давно открыл для себя тайну собственного происхождения. Он только что вернулся из Полтавы, где целая череда убийств потрясла маленький и тихий городок Сорочинцы, в котором жила его мать. Поначалу следствие, которое вел сам Гоголь и его близкий друг Данилевский, следователь Третьего отделения, подозревало в их совершении дядьку писателя, Ивана Яновского. На его причастность указывали все добытые доказательства, да и с ним самим в канун задержания случилось нечто, что подтвердило результат поисков – кажется, он покончил с собой. В общем, следствие закончилось достаточно быстро. Вот только самого Гоголя его результаты не удовлетворили. Он вернулся с четким осознанием своей собственной причастности к ритуальным убийствам девушек, включая свою покойную сестру Александру. При этом, по его словам, сам он не был их исполнителем – их совершал всадник. Тот самый всадник, который откуда ни возьмись появился на пороге комнаты, в которой сравнительно недавно и сам Гоголь, и Языков совершали литургический обряд. Не только двое приятелей, но и остальные члены посещаемой ими секты «Мученики ада» видели его появление, но никто толком не понимал – действительно ли это Лонгин, убивший Христа, или просто нанятый председателем общества актер. Никто не понимал и цели его визита, и истинной подноготной его появления в маленькой петербургской комнате в ночной час. Однако, как видно, появление его произвело на Николая Васильевича столь сильное впечатление, что он стал ассоциировать всадника и с теми ужасными событиями, что произошли на его родине.
–Говорю тебе, это был всадник, он… Он буквально на моих глазах зарубил Ивана Яновского, и основную часть кровавых убийств в Диканьке тоже совершил именно он!
–Погоди. А как же Иван? Ведь в отчете следствия сказано…
–Именно. Иван, возможно, был как-то причастен к убийствам своей дочери и Хомы Брута, несчастного бурсака, которому повелел читать по ней отходные. А остальные жертвы – вне всякого сомнения, на совести всадника!..
–Меж тем, к делу, как я понимаю, выводы подобного рода не пришьешь?
–Нет, но факт остается фактом. И я, и Саша Данилевский видели его, и стали очевидцами убийства Яновского, которое до боли по признакам своим похоже на остальные ритуальные убийства, что происходили последние несколько месяцев в Сорочинцах. И ты тоже его видел. Тогда, у «Мучеников ада».
–Кого я видел?
–Ты так ничего и не понял?
–О чем ты? – с искренним недоумением спрашивал Языков.
–Кто такой был, по-твоему, этот всадник?