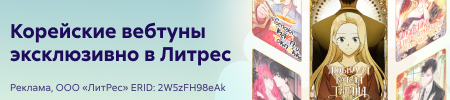Полная версия
Оптимистические этюды
– Почему у тебя ничего не написано про меня? – спросила она.
– Я еще не закончил, – сказал он. – Помню, как ты куталась в меховой воротник, а твои глаза блестели в свете фонаря, помню твое счастливое лицо, когда ты показывала корзинку, полную белых грибов, помню, как ты радовалась, когда мы вошли в нашу первую квартиру, где не надо было спешить, смотреть на часы… А что помнишь ты?
– Я все это помню. И твои неумелые руки, и как я купалась вечером в озере, и голая заходила в воду. Заходила медленно, знала, что тебе нравится на меня смотреть. Странно… Вот я говорю, и все это становится неинтересным. Слова все упрощают, лучше помнить картинки и еще что-то, о чем лучше думать, а не говорить и писать. Ты работай, а я пойду погуляю.
– На улице холодно, вот шарф, надень его.
Она надела шапочку, обмотала горло шарфом.
– Ты знаешь, – сказала она, – можно целыми днями говорить о любви, а можно помнить, что мне надо не забыть шарф. И для меня то, что ты помнишь о шарфе, важнее тысячи слов.
Слова
Писатели пытаются описать словами неописуемое. Сия простая, но спорная мысль пришла мне в голову, когда в один морозный день я шел по Тверскому бульвару. В мороз обостряется чувство одиночества и собственной ненужности. Вокруг толпа закутанных фигур, все стремятся сохранить тепло и отгораживаются от любого общения. Навстречу идет молодая женщина, на ее лице застыло недовольно-серьезное выражение. «Идет, как усталая манекенщица», – думаю я, пытаясь описать ее походку. Потом стараюсь забыть придуманное – ведь я никогда не видел, как ходят усталые манекенщицы.
Самое опасное в морозный день – это безразличие. У памятника Тимирязеву сворачиваю направо, перехожу улицу. Вроде горел зеленый сигнал светофора, но я не уверен – на морозе теряется чувство опасности, ты перестаешь присматриваться к машинам, появляется наивное ощущение, что водители понимают, что тебе холодно и неуютно, и они должны относиться с сочувствием к твоему желанию идти быстрее вперед.
Вот еще поворот, еще, вход во дворик, открываю дверь. Это музей Алексея Толстого. Хотел ли я туда зайти? Вроде хотел погреться в кафе, но там надо мыть замерзшие руки, сидеть, ждать, пить и есть то, что ты не любишь. Мне больше хотелось домой, чтобы сварить картошку, нарезать помидоры и разогреть вчерашний бефстроганов. А потом заварить чай и пить его не спеша, поглядывая в окно, залитое холодным солнечным светом.
Но дом далеко, я стою в дверях под прицелом трех пар глаз. Охранница, не увидев в руках сумки, теряет ко мне интерес; гардеробщица с южным акцентом приглашает повесить куртку, кассирша-экскурсовод продает билет и говорит, что пойдет со мной.
Я не люблю, когда экскурсовод рассказывает что-то скучающей толпе, но один на один – это неплохо.
– Алексей Николаевич Толстой жил на втором этаже, – говорит худенькая, прихрамывающая женщина в черном платье, и мы медленно поднимаемся по старой простенькой лестнице.
Входим в огромный кабинет писателя, заставленный дорогой, явно английской мебелью. Стены в картинах, над бюро висит портрет Петра Первого, рядом его бюст, слепок прижизненной маски Петра. В комнате четыре рабочих места.
– Утром он работал, стоя у бюро, – рассказывает моя спутница. – Потом печатал на машинке за этим маленьким столиком, к обеду он перемещался к третьему столику около камина, где правил и думал. А за большим столом он любил просматривать официальные бумаги и беседовать с гостями.
Я вспоминаю Набокова, который в Париже писал по ночам, сидя на унитазе, приспособив чемодан в качестве столика.
– Тут он писал про Петра, – продолжает экскурсовод. – Жаль, что не успел дописать.
Я киваю, это интересно.
– Хотите секрет? – женщина приближается ко мне и понижает голос. – Может, он и не собирался дописывать. Он, наверное, хотел, чтобы все остались молодыми.
Я опять киваю, не спорю – спросить у Алексея Николаевича уже ничего нельзя.
– Он был гениальным писателем, – сообщает спутница «последние новости». – Сейчас вообще нет писателей, а вот он…
– Несущий голову в облаках, – говорю я. – А потом на землю, с портфельчиком на работу. Или с пакетами в кармане за молоком и хлебом.
– Это вы о чем?
– Это так, из его «Гадюки».
– Алексей Николаевич не спускался на землю, – обижается собеседница. – Он нес голову в облаках до последних дней.
Я опять не спорю. «Красный барин», любимец Сталина, депутат, лауреат, председатель Союза писателей, автор романа «Хлеб», любитель красивой жизни и красивых женщин. Но не мне его осуждать, он вернулся в Россию – это было непростое решение.
Спальни и ванной нет. Вместо них музыкальный салон. Дешевые стулья, рояль, на стене портрет красавицы. Это Наталья Васильевна – третья жена писателя, прототип Кати Рощиной из «Хождения по мукам». Я не могу оторвать глаз.
– Он потом женился на своей секретарше! – говорит экскурсовод и качает головой. – Молодая, энергичная, но ее портрета у нас нет. Она тут жила до 1982-го года. Это ее ограбили.
Это уже неинтересно, это было потом, в другую эпоху.
На улице я вижу женщину средних лет, в шубе, с непокрытой головой. Ей холодно, но сохранить укладку волос для нее важнее. Вслед за ней идет девушка в яркой куртке – молодая, энергичная, длинноногая. Она прижимает телефонную трубку к уху и рассказывает подруге про вчерашний веселый вечер.
– Как же она непохожа на Катю Рощину, – думаю я, поднимаю воротник и иду к метро.
В шумной подземной суете я согреваюсь, забываю про Катю, Дашу, отчаянного Алексашку, старенькую машинку «Ундервуд», портреты на стенах, уютный столик у камина. Потом, в тесноте вагона вдруг понимаю, что после квартиры писателя я поневоле старался нести голову в облаках, но вот пришлось спуститься на землю и я иду по ней, мысленно прижимая к себе портфельчик с какими-то ненужными бумагами.
Портфель
Сейчас мало кто носит портфели. Студенты и школьники с рюкзаками, очень деловые люди с дипломатами, в которые, если верить фильмам, помещается один миллион долларов в стодолларовых купюрах. Остальным хватает телефона в кармане – он и бумажник, и документы, и книга, и блокнот, и многое другое.
В далекие времена я любил портфели. Помимо конспектов, учебников и бутербродов я всегда носил книги. Автобусы, метро, электрички – а где еще можно почитать всегда занятому студенту полное собрание сочинений Томаса Манна или Джека Лондона? В портфеле всего было два тома – вдруг один закончу, а тут и следующий готов к прочтению.
А теперь представьте: зима, поздний вечер, полупустая электричка, тусклый свет. Глаза быстро устали, я положил томик Джека Лондона в портфель, стал думать, что девиз «Время не ждет» можно сделать девизом моей жизни. Поднимаю голову, напротив меня сидит мужчина в очках, на коленях портфель, он уперся в него локтями, положил голову на ладони, пытается задремать. Я решил, что он инженер, работал над конструкцией какой-нибудь космической ракеты, которую надо быстрее готовить к испытаниям. Сроки поджимают, конструкторское бюро работает допоздна и без выходных. Мне хотелось спросить у него – прав ли я, но тут в вагон зашел довольно прилично одетый мужчина лет сорока. Нос у него был в красных прожилках, но выцветшие глаза смотрели весело, с лица не сходила улыбка. Он остановился у двери, растянул меха аккордеона и запел «Я по свету немало хаживал…» Голос у него был негромким, мягким, но очень наполненным. Сначала стихли те, кто сидел рядом с ним, потом постепенно затих весь вагон. Спев два куплета, он не спеша пошел вперед. Его догоняли, совали деньги в карман и просили спеть еще. Он шел, не останавливаясь, и тихо благодарил.
Я приготовил деньги, но не успел его догнать, пошел за ним в следующий вагон. Там он тоже остановился у дверей и запел «Мне кажется, порою, что солдаты…» Запел он так, что вагон затих за несколько секунд. Даже подростки, курившие в тамбуре, перестали смеяться и стали прислушиваться. От его пения у меня появился комок в горле и намокли глаза. Я сунул ему деньги и ушел в свой вагон. Этого певца нельзя было слушать долго. Формулы, которые крутились у меня в голове, и девиз, взятый у Джека Лондона, стали казаться глупыми и никому не нужными.
Я сидел у окна, смотрел, как мелькают фонари, и думал, что это было? Слова, исполнение или мелодии так на меня подействовали? Ничего я не придумал, просто сидел и смотрел в окно. «Музыка, – вдруг сказал сидевший напротив инженер. – Люблю музыку».
Музыка
Когда я хожу на работу, то в переходе между зданиями вижу музыкантов. Вечером там сидят певцы с гитарами и поют песни в стиле «кантри», но утром я слушаю только серьезную музыку. Там сменяют друг друга виолончелист и флейтистка. Виолончелист чернокожий, он всегда играет одну и ту же заунывную мелодию, считая, что для проходящих и так сойдет – ведь они слушают его не более одной минуты. Флейтистка играет Моцарта. Что-то я сам играл в музыкальной школе (ох уж это рондо в турецком стиле – третья часть фортепианной сонаты №11 ля мажор). Но у флейтистки репертуар несравненно богаче. Она старается и, кажется, даже сама получает удовольствие. Прищурив глаза, она как будто купается в мелодии и в лучах холодного зимнего солнца, слегка прикрытого серыми облаками.
Иногда мы идем по переходу с другом-физиком. Он знает все произведения Моцарта. Когда мы проходим мимо флейтистки и мелодия замирает за дверью в другое здание, он начинает напевать продолжение темы, чтобы музыка не умирала так внезапно.
На следующий день должен играть виолончелист, но однажды он не пришел. Не звучала его грустная мелодия, тихо было в переходе. Не пришел он и на следующий день, и через неделю. Флейтистка стала играть каждый день, и я как-то спросил у нее, что случилось с виолончелистом.
– Его больше нет, остановилось сердце, – сказала она. – Об этом даже в газете написали.
Оказалось, что этого виолончелиста знал почти весь город, к нему привыкли, не трогали, все радовались, что хоть что-то постоянно в окружающей суматохе. Жил виолончелист один, зарабатывал тем, что по утрам играл в нашем переходе. Теперь его нет, и город немного опустел.
Города
Каждый город имеет свое лицо, свой характер. Эта тривиальную мысль всегда приходит в голову во время путешествий.
– Наверное, Венеция – это город гондол, любви и музыки? – спрашиваю я приятеля.
Он смеется.
– Венеция – это город, где на каждом углу с тебя пытаются содрать побольше денег, – говорит он. – А вот Буэнос-Айрес – это город танго.
Я никогда не был в Аргентине и приготовился слушать его рассказ. Он только что прилетел с женой из Буэнос-Айреса, где они часами бродили по городу, слушали уличных музыкантов, смотрели на влюбленных, которых почему-то там очень много, сидели в маленьких кафе, были на стадионе, где кричали так, что слышно было за десять километров. Но самое интересное в Буэнос-Айресе – это танго на улицах. Такое чувство, что все жители города танцуют танго. Танцуют молодые и красивые, стройные и гибкие, женщины в ярких платьях, а мужчины в строгих костюмах. На них можно смотреть часами. Они танцуют в центре города, в парках и на пустынных площадях.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.