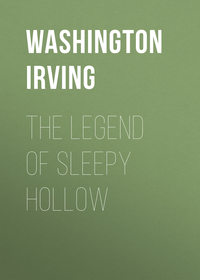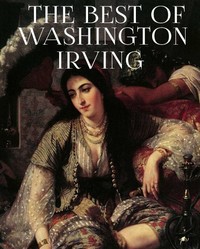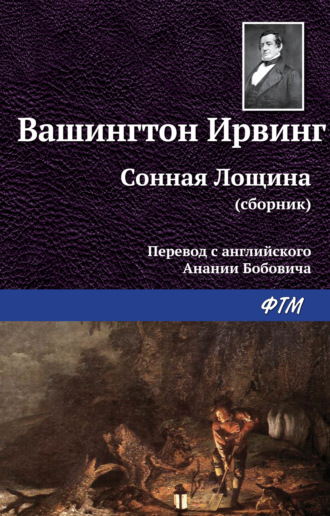
Полная версия
Сонная Лощина
– Помилуйте, джентльмены! – воскликнул Рип, окончательно сбитый с толку. – Я человек бедный и мирный, уроженец здешних мест и верный подданный своего короля, да благословит его бог!
Тут поднялся отчаянный шум:
– Тори! Тори! Шпион! Эмигрант! Держи его! Долой!
Важный человек в треуголке с превеликим трудом восстановил, наконец, порядок и, придав себе еще больше важности и суровости, еще раз допросил неведомого преступника: зачем он явился сюда и кого он разыскивает? Бедняга Рип стал смиренно доказывать, что ничего худого он не замыслил и явился сюда лишь затем, чтобы повидать кого-нибудь из соседей, обычно собирающихся возле трактира.
– Отлично, но кто же они? Назовите их имена!
Рип задумался на минутку, потом сказал: «Николас Веддер».
Воцарилось молчание; его нарушил какой-то старик, который тонким, визгливым голосом пропищал:
– Николас Веддер? Вот уже восемнадцать лет, как он скончался и отошел в лучший мир. Над его могилой, что на церковном дворе, стоял деревянный крест, который мог бы о нем рассказать, но крест истлел, и теперь от него тоже ничего не осталось.
– Ну а где же Бром Детчер?
– Ах, этот! Еще в начале войны он отправился в армию; одни утверждают, что он убит при взятии приступом Стони Пойнт, другие – будто он утонул во время бури у Антонова Носа. Не знаю, кто из них прав. Он так и не вернулся назад.
– А где ван Буммель, учитель?
– Он тоже ушел на войну, стал важным генералом и теперь заседает в Конгрессе.
Услышав о переменах, происшедших в родной деревне, и о жестокой судьбе, отнявшей у него старых друзей, и рассудив, что он остался теперь один-одинешенек на всем белом свете, Рип почувствовал, как сердце его сжимается и замирает. К тому же каждый ответ порождал в нем глубокое недоумение, ибо дело шло о больших отрезках времени и о событиях, которые не укладывались в его сознании: война, Конгресс, Стони Пойнт. Он не решился спрашивать о прочих друзьях и вскричал в полном отчаянии:
– Неужели никто не знает тут Рипа ван Винкля?
– Ах, Рип ван Винкль! – раздались голоса в толпе. – Ну еще бы! Вот он, Рип ван Винкль, вот он стоит, прислонившись к дереву.
Рип взглянул в указанном направлении и увидел своего двойника, совершенно такого, каким был он, отправляясь в горы. Это был, по-видимому, такой же ленивец и, во всяком случае, такой же оборвыш! Бедняга Рип окончательно растерялся. Он усомнился в себе самом: кто же он – Рип ван Винкль или кто-то другой? И пока он стоял в замешательстве, человек в треуголке обратился к нему с вопросом:
– Кто вы и как вас зовут?
– Ты, Господи, веси![4] – воскликнул Рип, теряя рассудок. – Ведь я вовсе не я… я – кто-то другой… Вот я стою там… нет… это кто-то другой в моей шкуре… Вчера вечером я был настоящий, но я провел эту ночь среди гор, и мне подменили ружье, все переменилось, я переменился, и я не могу сказать, как меня зовут и кто я такой.
Тут присутствующие начали переглядываться, перемигиваться, покачивать головой и многозначительно постукивать себя по лбу. В толпе зашептались о том, что неплохо отнять у старого деда ружье, а не то, пожалуй, он натворит каких-нибудь бед. При одном упоминании о подобной возможности почтенный и важный человек в треуголке поспешно ретировался. В эту решительную минуту молодая миловидная женщина, протолкавшись вперед, подошла взглянуть на седобородого старца. На руках у нее был толстощекий малыш, который при виде Рипа заорал благим матом.
– Молчи, Рип, – вскричала она. – Молчи, дурачок: дедушка тебе худого не сделает.
Имя ребенка, внешность матери, ее голос – все это пробудило в Рипе вереницу далеких воспоминаний.
– Как тебя зовут, милая? – спросил он.
– Джудит Гарденир.
– А как звали твоего отца?
– Его, беднягу, звали Рипом ван Винклем, но вот уже двадцать лет, как он ушел из дому с ружьем на плече, и с той поры о нем ни слуху ни духу. Собака одна вернулась домой, но что сталось с отцом, застрелил ли он сам себя или его захватили индейцы, – никто на это вам не ответит. Я была тогда совсем маленькой девочкой.
Рипу не терпелось выяснить еще одно обстоятельство, и с дрожью в голосе он задал последний вопрос:
– Ну а где твоя мать?
– Она тоже скончалась; это случилось недавно. У нее лопнула жила – она повздорила с коробейником, что прибыл из Новой Англии.
По крайней мере хоть это известие заключало в себе кое-что утешительное. Бедняга не мог дольше сдерживаться. В одно мгновение и дочь, и ребенок оказались в его объятиях.
– Я – твой отец! – вскричал он взволнованно. – Я – Рип ван Винкль, когда-то молодой, а теперь старик Рип ван Винкль! Неужели никто на свете не признает беднягу Рипа ван Винкля?
Все пялили на него глаза. Какая-то маленькая старушка, пошатываясь от слабости, вышла, наконец, из толпы, прикрыла ладонью глаза и, вглядевшись в его лицо, воскликнула:
– Ну конечно! Это же – Рип ван Винкль, он самый! Добро пожаловать! Где же ты пропадал, старина, в продолжение долгих двадцати лет?
История Рипа была на редкость короткой, ибо целое двадцатилетие пролетело для него, как одна летняя ночь. Окружающие, слушая Рипа, уставились на него и дивились его рассказу; впрочем, нашлись и такие, которые подмигивали друг другу и корчили рожи, а почтенный человек в треуголке, по миновании тревоги возвратившийся к месту происшествия, поджал губы и покачал головой; тут закачались и головы всех собравшихся.
Тогда порешили узнать мнение старого Питера Вандердонка; как раз в этот момент он медленно брел по дороге. Он был потомком историка с тем же именем, оставившего одно из первых описаний этой провинции. Питер был самым старым из местных жителей и знал назубок все примечательные события и преданья округи. Он тотчас же признал Рипа и заявил, что считает его рассказ вполне достоверным. Он заверил присутствующих, что Каатскильские горы, как подтверждает его предок-историк, искони кишели какими-то странными существами; передают, будто Генрик Гудзон, впервые открывший и исследовавший реку и прилегающий край, раз в двадцать лет обозревает эти места вместе с командой своего «Полумесяца». Таким образом, он постоянно навещает область, бывшую ареною его подвигов, и присматривает бдительным оком за рекою и большим городом, названным его именем. Отцу Питера Вандердонка будто бы удалось однажды увидеть их: призраки были одеты в старинное голландское платье, они играли в кегли в котловине между горами; да и ему самому случилось как-то летом под вечер услышать стук их шаров, похожий на раскаты далекого грома.
В конце концов толпа успокоилась и приступила к более важному делу – к выборам.
Дочь Рипа поселила его у себя. У нее был уютный, хорошо обставленный дом и рослый жизнерадостный муж, в котором Рип узнал одного из тех сорванцов, что забирались во время оно к нему на спину. Что касается сына и наследника Рипа, точной копии своего незадачливого отца, того самого, которого мы видели прислонившимся к дереву, то он работал на ферме у зятя и отличался унаследованной от Рипа-старшего склонностью заниматься всем, чем угодно, но только не собственным делом.
Рип возобновил свои странствования и былые привычки; он разыскал также старых приятелей, но и они были не те: время не пощадило и их! По этой причине он предпочел друзей из среды юного поколения, любовь которого вскоре снискал.
Свободный от каких бы то ни было домашних обязанностей, достигнув того счастливого возраста, когда человек безнаказанно предается праздности, Рип занял старое место у порога трактира. Его почитали как одного из патриархов деревни и как живую летопись давних, «довоенных времен». Миновало немало дней, прежде чем он вошел в курс местных сплетен и уяснил себе поразительные события, происшедшие за время его многолетнего сна. Много чего пришлось узнать Рипу: узнал он и про войну за независимость, и про свержение ига старой Англии, и, наконец, что он сам превратился из подданного короля ГеоргаIII в свободного гражданина Соединенных Штатов. Сказать по правде, Рип плохо разбирался в политике: перемены в жизни государств и империй мало задевали его; ему был известен только один вид деспотизма, под гнетом которого он столь долго страдал, – деспотическое правление юбки. По счастью, этому деспотизму тоже пришел конец; сбросив со своей шеи ярмо супружества и не страшась больше тирании хозяйки ван Винкль, он мог уходить из дому и возвращаться домой, когда пожелает. Всякий раз, однако, при упоминании ее имени он покачивал головою, пожимал плечами и возводил вверх глаза, что с одинаковым правом можно было счесть выражением и покорности своей печальной судьбе, и радости по поводу неожиданного освобождения.
Рип рассказывал свою историю каждому новому постояльцу гостиницы мистера Дулитля. Было замечено, что вначале он всякий раз вносил в эту историю кое-что новое, вероятно из-за того, что только недавно пробудился от своих сновидений. Под конец его история отлилась в тот самый рассказ, который я только что воспроизвел, и во всей округе не было мужчины, женщины или ребенка, которые не знали ее наизусть. Иногда, впрочем, выражались сомнения в ее достоверности; кое-кто уверял, что Рип попросту спятил и что его история и есть тот пункт помешательства, который никак не вышибить из его головы. Однако старые голландские поселенцы относятся к ней с полным доверием. И сейчас, услышав в разгар лета под вечер раскаты далекого грома, доносящиеся со стороны Каатскильских гор, они утверждают, что это Генрик Гудзон и команда его корабля режутся в кегли. И все мужья здешних мест, ощущающие на себе женин башмак, когда им жить становится невмоготу, мечтают о том, чтобы испить забвения из кубка Рипа ван Винкля.
Жених-призрак
Тот, для кого весь в яствах стол стоит,
Тот, мне сказали, недвижим лежит!
Вчера при мне он в горнице прилег,
А нынче стлал ему седой клинок.
Сэр Эджер, сэр Грейм и сэр Грей-СтилНа одной из горных вершин Оденвальда, дикой и романтической области в южной части Германии, лежащей близ слияния Майна и Рейна, в давние, давние годы стоял замок барона фон Ландсхорта. Теперь он пришел в совершенный упадок, и его развалины почти полностью скрыты от взоров буковыми деревьями и темными соснами, над которыми, впрочем, еще и поныне можно видеть сторожевую башню, стремящуюся, подобно своему былому владельцу – его имя я назвал выше, – высоко держать голову и посматривать сверху вниз на окрестные земли.
Барон был последним отпрыском великого рода Каценеленбоген[5] и унаследовал от предков остатки угодий и их тщеславие. Хотя воинственные наклонности предшественников барона и нанесли непоправимый урон фамильным владениям, он тем не менее старался поддерживать видимость былого величия. Времена были мирные, и германская знать, покидая свои неуютные замки, прилепившиеся к горам, точно орлиные гнезда, строила себе удобные резиденции в плодородных долинах. Барон, однако, гордо отсиживался наверху в своей маленькой крепости, поддерживая с наследственным упорством старые родовые распри и вражду, завещанную ему прапрадедами, и находясь по этой причине в дурных отношениях с некоторыми из своих ближайших соседей.
Барон был отцом единственной дочери; природа, дарящая людям единственного ребенка, сторицей вознаграждает родителей, создавая настоящее чудо, – так было и с баронскою дочерью. Нянюшки, кумушки и окрестные родичи уверяли отца, что такой раскрасавицы не найти в целой Германии, а кому же лучше знать о таких вещах, как не им? К тому же она выросла под неусыпным наблюдением двух незамужних тетушек, живших некогда, в дни своей молодости, при одном крошечном немецком дворе и отлично осведомленных во всем, что требуется для воспитания знатной дамы. Следуя их указаниям, она превратилась в верх совершенства. К восемнадцати годам она научилась восхитительно вышивать и изобразила на коврах целые жития святых, причем выражение их лиц было до того строгим, что они скорее походили на души чистилища. Она могла также почти свободно читать и разобрала по складам несколько церковных легенд и почти всю «Книгу героев»[6] с ее нескончаемыми чудесами и подвигами. Она сделала значительные успехи даже в письме: умела подписать свое имя, не пропустив ни единой буквы и так разборчиво, что тетушки читали ее подпись, не прибегая к очкам. Она преуспевала и в рукоделии, снабжая дом изящными дамскими безделками всякого рода; была искусна в самых сложных новейших танцах, наигрывала на арфе и гитаре немало романсов и песен и знала наизусть все трогательные баллады миннезингеров. Ее тетушки – в дни молодости ужасные кокетки и ветреницы – были, можно сказать, предназначены к роли бдительных стражей и строгих судей поведения своей юной племянницы, ибо нет более чопорных и неумолимых дуэний, чем состарившиеся кокетки. Они почти не спускали с нее глаз; она никогда не выходила из замка без большой свиты, или, вернее, охраны, и ей постоянно внушали правила благопристойности и беспрекословного послушания; а что касается мужчин, то – боже милостивый! – ее научили держать их на таком почтительном расстоянии, относиться к ним с таким недоверием, что без надлежащего дозволения она не посмела бы взглянуть даже на самого красивого кавалера в мире – да, да! – не посмела бы, даже если бы он умирал у ее ног. Прекрасные результаты такой системы были очевидны. Молодая девушка могла служить образцом послушания и благонравия. В то время как ее сверстницы растрачивали свое девическое очарование среди мирской сумятицы и мишуры, так что нежный цветок его мог быть сорван и потом выброшен какой-нибудь безжалостною рукой, она застенчиво и целомудренно, как роза между шипами-телохранителями, расцветала под бдительным оком добродетельных старых дев и превратилась, наконец, в прелестную девушку. Тетушки поглядывали на нее с гордостью и торжеством, похваляясь, что, хотя всем другим юным девам на свете недолго споткнуться, с наследницей рода Каценеленбоген, благодарение небу, ничего подобного случиться не может.
Хотя барону Ландсхорту и не посчастливилось иметь много детей, все же за его стол садилась куча народу, так как судьба с избытком наградила его бедными родственниками. Все они, как один, обладали характером пылким и привязчивым, что вообще свойственно небогатой родне; все обожали барона и пользовались любым подходящим случаем, чтобы налетать к нему целыми стаями и оживлять своим присутствием замок. Свои семейные торжества эти славные люди неизменно справляли за счет барона и, угостившись всласть, уверяли, будто на всей земле нет ничего упоительнее, чем эти семейные встречи, чем эти праздники сердца.
Несмотря на свой малый рост, барон обладал великой душой, и она пыжилась от удовольствия, сознавая, что в окружающем его крошечном мире ему принадлежит первое место. Он любил растекаться в длинных-предлинных рассказах о доблестных воинах доброго старого времени, чьи портреты хмуро глядели со стен, и нигде он не находил таких внимательных слушателей, как среди тех, кто кормился за его счет. Он всею душою тянулся к чудесному и безоговорочно верил бесконечным легендам и сагам, которыми в Германии славятся любая гора и долина. Его гости были, впрочем, еще простодушней и слушали эти рассказы с широко раскрытыми глазами и ртами, причем никогда не забывали выразить свое изумление, хотя бы им в сотый раз приходилось выслушивать то же самое.
Так вот и жил барон фон Ландсхорт, оракул у себя за столом, абсолютный монарх в пределах принадлежавшей ему небольшой территории и сверх всего счастливец, глубоко убежденный в том, что он – мудрейший человек своего века.
В момент, с которого, собственно, и начинается моя повесть, в замке происходило очередное сборище родственников, съехавшихся на этот раз по исключительно важному поводу: предстояло встретить жениха, избранного бароном для дочери. Между отцом невесты и одним престарелым дворянином-баварцем было достигнуто соглашение, ставившее своею целью объединить славу их благородных имен заключением брака между детьми. Предварительные переговоры протекали со всеми подобающими формальностями. Молодые люди были помолвлены, ни разу не повидав друг друга; уже был назначен день свадьбы. Молодой граф фон Альтенбург был вызван с этой целью из армии и в данное время находился в пути, направляясь в замок барона, чтобы из его рук получить невесту. Задержавшись по непредвиденным обстоятельствам в Вюрцбурге, он прислал оттуда письмо с указанием дня и часа своего прибытия.
В замке начались оживленные приготовления к приему долгожданного гостя. Прекрасную невесту наряжали с необычайною тщательностью. Тетушки, которым принадлежала верховная власть во всем, что касалось ее туалета, спорили из-за каждой принадлежности ее свадебного наряда целое утро. Использовав их распрю, молодая девушка последовала указаниям своего вкуса, который, по счастью, оказался хорош. Она была так прелестна, как только мог пожелать юный жених. Тревога ожидания делала ее еще привлекательней.
Краска румянца, вспыхивавшая на ее лице и на шее, учащенное дыхание, колыхавшее грудь, глаза, время от времени погружавшиеся в задумчивость, – все свидетельствовало о нежном волнении, царившем в ее сердечке. Подле нее неизменно продолжали свои хлопоты тетушки, ибо незамужние тетушки проявляют особенный интерес к делам этого рода. Они преподали ей целую кучу благоразумных советов, наставляя ее, как держаться, что говорить и каким образом встретить своего суженого.
Барон был не меньше других занят приготовлениями. Сказать по правде, его вмешательства вовсе не требовалось, но этот живой, суетливый от природы маленький человечек не мог оставаться бездеятельным среди царившей вокруг суматохи. С невероятно озабоченным видом метался он по всему замку, беспрерывно отрывая слуг от работы и увещевая их проявить как можно больше усердия; его жужжание, доносившееся изо всех зал и всех комнат, было столь же докучливо и неугомонно, как жужжание большой синей мухи в разгар знойного летнего дня.
Между тем зарезали заранее откормленного теленка, леса огласились гиканьем охотников, кухня была завалена отменной провизией, из подвалов извлекались целые океаны рейнвейна и ферневейна, даже на большую гейдельбергскую бочку[7] была наложена некая контрибуция. Все было готово к приему бесценного гостя с обычным для немцев веселым и шумным гостеприимством. А гостя все нет как нет: он запаздывал. Час проходил за часом. Солнце, еще недавно освещавшее своими косыми лучами могучие леса Оденвальда, теперь золотило уже только самую кромку горных вершин. Барон поднялся на свою самую высокую башню и напрягал зрение в надежде увидеть где-нибудь в отдалении графа и его спутников. Однажды ему показалось, будто он уже видит их; из долины послышался звук рогов, подхваченный горным эхом. Далеко, далеко внизу можно было различить всадников, медленно подвигавшихся по дороге; почти достигнув подножия горы, они внезапно повернули и поскакали в другом направлении. Угасли последние лучи солнца, в наступивших сумерках замелькали летучие мыши; дорогу уже едва можно было различить, на ней не было никого, кроме крестьян, устало тащившихся по домам после дневных трудов. В те самые часы, когда старинный замок Ландсхорт пребывал в тревоге и беспокойстве, тут же, в Оденвальде, но несколько в стороне, произошло событие большой важности.
Молодой граф фон Альтенбург безмятежно совершал свой путь той легкой размеренной рысью, какая подобает человеку, едущему жениться и знающему, что благодаря заботам друзей он избавлен от хлопот и сомнений в исходе своего сватовства и его ждет невеста – ждет так же несомненно, как по окончании томительного пути его несомненно ожидает обед. В Вюрцбурге он встретился с товарищем по оружию, некоторое время служившим вместе с ним на границе. Это был Герман фон Штаркенфауст, славившийся среди немецкого рыцарства необычайной силой и благороднейшим сердцем. Он возвращался ныне из армии. Замок его отца находился неподалеку от старинной крепости Ландсхорт, но обе семьи издавна враждовали между собою и никогда не общались. Обрадованные неожиданной встречей, молодые люди повели речь о своих успехах и похождениях, и граф, среди прочего, сообщил также историю своей предстоящей женитьбы на девушке, которой он никогда не видал, но которую ему описали как редкостную красавицу.
Так как друзьям предстояло ехать в одном направлении, они решили проделать остаток пути сообща и, не желая торопиться, выехали на рассвете из Вюрцбурга, причем граф велел своей свите последовать за ним несколько позже и в дороге нагнать его.
Они коротали путь в воспоминаниях об эпизодах боевой жизни и былых похождениях; впрочем, граф, рискуя наскучить своему собеседнику, снова и снова принимался описывать прославленную красоту своей нареченной невесты и говорить о счастье, которое его ожидает.
Беседуя таким образом, они начали подниматься на один из самых глухих и лесистых перевалов Оденвальда. Известно, что леса Германии всегда так же кишмя кишели разбойниками, как замки ее – нечистою силой; в то время, о котором здесь повествуется, число первых еще более возросло за счет беглых солдат, слонявшихся по стране. Никто поэтому не увидит ничего необычайного в том, что наши всадники подверглись в лесной глуши неожиданному нападению шайки этих бродяг. Они доблестно защищались, но их силы были уже на исходе, когда на выручку к ним подоспела графская свита. При виде ее разбойники разбежались, успев нанести графу смертельную рану. Медленно и бережно доставили его обратно в Вюрцбург; из соседнего монастыря был вызван монах, славившийся своим умением врачевать с равным успехом и тело и душу: впрочем, первое искусство оказалось излишним – часы несчастного графа были уже сочтены.
Перед смертью он попросил своего друга немедленно отправиться в замок Ландсхорт и объявить роковую причину, из-за которой он не мог явиться к невесте в назначенный срок. Не будучи чересчур страстно влюблен, он был человеком в высшей степени аккуратным, и теперь, видимо, его очень заботило, чтобы это поручение было быстро и учтиво исполнено. «Если это не будет сделано, – сказал он, – я не смогу спать спокойно в могиле». Он произнес эти слова с особой торжественностью. Просьбу умирающего, высказанную при столь трагических обстоятельствах, следовало уважить. Штаркенфауст постарался его успокоить: он обещал в точности выполнить его волю и в подтверждение своих слов протянул ему руку. Умирающий пожал ее в знак благодарности и вскоре после этого впал в беспамятство. В бреду он говорил о невесте, о своих обязательствах перед нею, о данном им слове, требовал, чтобы к нему подвели коня, на котором он сейчас же поскачет в замок Ландсхорт, и скончался, воображая, будто садится в седло.
Штаркенфауст вздохнул о безвременно погибшем товарище, смахнул с глаз скупую слезу солдата и предался размышлениям о весьма неприятной миссии, выпавшей на его долю. Он брался за нее с тяжелым сердцем и со смятением в мыслях, ибо ему предстояло явиться в качестве незваного гостя к недругам и омрачить их празднество роковым для их радужных упований известием. Впрочем, в душе его пробудилось известное любопытство, и ему захотелось взглянуть на прославленную красавицу Каценеленбоген, столь ревниво скрываемую от света. Нужно сказать, что он принадлежал к числу страстных поклонников прекрасного пола, к тому же ему были свойственны эксцентричность и предприимчивость, так что любое приключение увлекало его до безумия.
Перед тем как покинуть Вюрцбург, он заключил с монастырской братией необходимое соглашение о погребальных обрядах над его другом, которого предполагалось похоронить в местном соборе, рядом с его славными родичами; глубоко опечаленная графская свита взяла на себя заботу о его бренных останках.
Однако пора возвратиться к древнему роду Каценеленбоген, члены которого, нетерпеливо ожидавшие гостя, еще нетерпеливее ждали обеда, а также к достойному маленькому барону; мы оставили его в час вечерней прохлады на сторожевой башне замка.
Спустилась ночь, но гостя все еще не было. Барон сошел с башни в отчаянии. Обед, который откладывался с часу на час, дольше не терпел отлагательства. Мясные кушанья перепрели, повар выходил из себя, гости своим видом напоминали гарнизон крепости, сдавшейся из-за голода. Барону волей-неволей пришлось распорядиться подавать на стол, несмотря на отсутствие жениха. Но как раз в ту минуту, когда все, усевшись уже по местам, готовились приступить к долгожданному пиру, звук рога, раздавшийся у ворот, возвестил о прибытии путника. Еще раз протяжно протрубил рог, и старые дворы замка наполнились эхом. Стража подала со стены ответ. Барон заторопился навстречу своему нареченному зятю.
Спустили подъемный мост, путник подъехал к воротам. Это был рослый красивый всадник на вороном скакуне. Лицо его покрывала бледность, глаза горели романтическим блеском, на всем его облике лежала печать благородной грусти. Барон был слегка обижен, что гость приехал один, без подобающей случаю пышности. На какое-то (правда, очень короткое) время он почувствовал себя оскорбленным и готов был рассматривать этот факт как недостаток уважения к столь значительному событию в жизни столь значительного семейства, с которым гость должен был породниться. Впрочем, он тотчас же успокоился и решил, что это все нетерпение молодости, побудившее жениха опередить свою свиту.