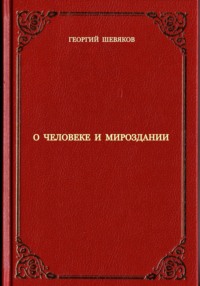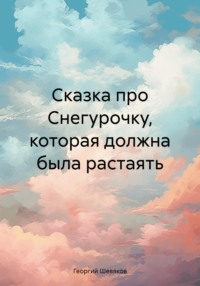Полная версия
Степан. Повесть о сыне Неба и его друге Димке Михайлове
– Это он Спинозу читает, дяденька – ответили со стороны – философ был такой датский.
– Не датский, а голландский – отрезал, насупившись, Димка.
– Странно. В детстве читают про пиратов, про индейцев, про бандитов, в конце концов. Почему именно Спиноза, а не тот же Кант? – продолжал мужчина. Спиноза не актуален. Я могу понять Федоров, Бердяев, все-таки про Россию.
– Он его в макулатуре нашел – так же прокомментировали сбоку.
– Ну и что? Нашел, выбросил, зачем же читать? – Пытливо смотрел мужчина на Димку.
– Там было написано, что бог никого не любит, – прошептал Димка.
Тихо стало после этих слов, потому что были они сказаны в девяносто восьмом году, когда мало было доброты среди людей. Шумливые мальчишки уткнули глаза в землю. Тонкая рука легла на Димкино плечо, слегка встряхнула.
– Ну-ну, бог. Если бы он еще был на свете. К тому же Спиноза писал, что бог никого и не любит, и не ненавидит. Так что толку, как от бога, так от Спинозы, как не было, так и нет. Хочешь, я принесу тебе действительно интересную и полезную книгу? О том, почему мы, русские, такие, какие есть. И что нас уже не переделаешь, даже ради нас самих – глухо закончил он.
– Как хотите, – мальчик пожал плечами.
– Ну и славно. Завтра в это же время и подъеду.
Коврики к тому времени высохли. Аккуратно постелив их в автомобиль, мальчишки дружно попрощались с мужчиной, наказав приезжать еще, мол, постоянным клиентам у них скидка, отчего и работники, и клиент дружно расхохотались. Оставив еще десять рублей «на чай» мужчина уехал. Пора было расходиться и дружной компании. Уже прощаясь, мальчишки нашли еще одну тему разговора. «Димон, слушай, тут к твоей сеструхе какой-то хмырь приставал». «Тачка у него крутейшая». «Тойота Ланд Крузер, черная, окна все затемненные», – наперебой заговорили они. «Все уговаривал ее покататься. Она как нас увидела, еле вырвалась». «Так что присматривай за ней. Рожа у него наглая», – заключил последний. Солидно пожав друг другу руки на прощанье, каждый направился к своему дому. Смеркалось. День был закончен.
Открыв дверь своим ключом, Димка потихоньку шмыгнул в ванную, и, стараясь не производить шума, выдавил зубную пасту на щетку и сунул в рот. Тут-то его и застала мать. «Димка, опять. Ну что мне с тобой делать. Только не говори, что стал чистюлей. Запах хочешь скрыть. Так?». С набитой пастой ртом и белыми губами Димка молча и жалобно смотрел на мать. Белая пена стекала по его подбородку. Краем полотенца мать вытерла ее. «Мало что ли у меня забот, Димка. Взрослеть тебе надо. Ты ведь один мужчина в доме. А все еще как дите малое. И обещаешь, и обманываешь». Она повернулась и ушла на кухню. Туда же виновато, как побитый пес, направился и мальчик.
Ужинали молча. Вареная картошка с поджаренными кусками колбасы и соленой капустой быстро исчезали со стола. Медленно пережевывая, Димка старался не встречаться с матерью глазами, но в конце не утерпел. «Слышь, Кать, кто это к тебе приставал. Ребята говорят, рожа наглая». «Да ну его»,– фыркнула сестра. Однако взгляды, которыми она переметнулась с матерью, выдали их тревогу. «Ты смотри, а то давай, я тебя встречать буду после школы. Мало ли придурков» – любовь к сестре и желание заслужить прощение матери звучали в его словах и вызвали грустную улыбку матери. Потрепав его по голове, она произнесла: «Посмотрим сынок. Если что, действительно будем встречать. А ты, Катя, подолгу нигде не задерживайся. Если и застрянешь у подруг, звони, встретим на остановке. Обещаешь?» «Вот еще, что я маленькая что ли? – взъерепенилась та, но дружный напор родных заставил ее сдаться, и она пообещала, что если будет поздно возвращаться, обязательно позвонит.
Закончился ужин дружным чаепитием, к которому присоединилась и бабушка, заглянувшая на дружескую перепалку, и кошка Клеопатра, в девичестве Клепа, изменившая своей привычной лени ради возможного лакомства. Молча, гипнотизируя лишь взглядом, медленно переводя свои изумрудные глаза с мальчика на девочку, ибо на хозяйку дома, как она давно убедилась, ее взор не действовал, она дождалась кусочка колбасы, тихо проурчала и устроилась позднее на коленях у бабушки. Чай пили все вместе, дружно мыли и вытирали посуду. Тихий семейный вечер подходил к концу. Он был обычным майским вечером 1998 года в середине месяца, если бы не то примечательное обстоятельство, что был он последним тихим и спокойным у этих и огромного множества других людей, о чем никто из них не догадывался.
Он подходил к концу и на другом краю города, рабочем районе, привычно называемом жителями Черниковкой по имени прежде села, а потом небольшого городка, захлестнутого разросшейся Уфой. Там среди старых деревянных зданий еще сталинской постройки, на улице Ломоносова во дворе дома номер десять, о котором мы упоминали, под непомерно разросшимся тополем стояла белая четверка. Ее хозяин сидел за рулем и смотрел перед собой на дом и окна своей квартиры в этом доме, куда ему не хотелось идти. У него не было семьи, ни жены, ни детей, ни отца и ни матери. С женой не получилось, сейчас поздно было говорить почему да как, а может быть он себе эту невозможность лишь внушил. Так же не получилось и с детьми. Мать с отцом, пройдя войну, недолго прожили на свете. Сестра жила в другом городе и виделись они в лучшем случае раз в год. Как и многие одинокие люди, он и любил и ненавидел свой дом. Он ненавидел пустоту, невозможность перекинутся с кем-то словом или увидеть чье-то движение в четырех стенах. И в то же время каждый день он возвращался сюда, оттягивая постоянно миг прихода, потому что не было у него другого гнезда на свете, где можно было бы сжаться в комок, как птица, и перетерпеть и зной и стужу.
Но кроме этой повседневной будничной причины, заматерелой, закостеневшей от десятилетий одинокой жизни, новая, возникшая лишь сегодня, в неизмеримо большей степени, чем первая, тяготила его. И всматривался он в окна своей квартиры, словно старался увидеть, что за ними, за этими рамами, стеклами, шторами. И не видя никакого отблеска в стеклах, ни шевеления штор, еще более мрачнел и твердил «бред, такого не может быть; неужели я сошел с ума». И он смотрел на свои ладони, стараясь вернуться к реальности, потирал пальцами виски и теребил дужки очков, вслушиваясь в самого себя, дабы услышать или прочесть веления сердца. Но сердце молчало. Идти было больше некуда. И даже не закрыв ключом дверь машины, словно испытывая судьбу, он вышел из нее и направился в свой дом.
Он ходил по маленькой двухкомнатной квартирке из угла в угол, из кухни в зал, из зала в спальню, он зажег везде свет и зашторил окна, включил телевизор, поставил кипятить чай. Еще раз проверил, плотно ли задернуты шторы, передвинул кресло в угол зала, вздохнул, сел и, решившись и закрыв глаза, тихо сказал «Гиперион». Словно легкий шорох пронесся по комнате, словно мельчайшие невидимые искры, переговариваясь между собой, нарушили установленный порядок, и, притягиваясь друг к другу, частицы воздуха поплыли в невообразимом танце посреди комнаты, с каждой долей мгновения уплотняя свои ряды. И секунды, наверное, не прошло, как невообразимо могучее существо, которое прежде, в страхе, он видел лишь мельком, с горящими навыкате глазами, и тем напряжением мускулов тела, которые словно были готовы взорваться, чтобы крушить и давить все вокруг, возвысилось над тем, кто его призвал, головой едва не доставая потолка, и глухо сказало: «Я здесь».
Глаза открылись, вперились в мощный торс, едва прикрытый обрывком ткани, в разлапистые ноги, расставленные так, что не сдвинуть их обладателя с места. Пробежали по рукам, бугры мускулов которых поражали воображение, короткой шее, вдвое толще головы, черных густых волосах на плечах и груди – признаках неукротимой мощи, и остановились на красных от налитой крови глазах. Дыхание мужчины замедлилось, стало глубоким и прерывистым, но свой измученный и жалкий взгляд он не отвел, разве что мелькнули в памяти аборигены дальних островов, считающие зайцев самыми храбрыми на свете по той причине, что единственные из всех живых существ они не отводят взгляда от глаз орла. И словно в ответ на эту его мысль обмякло тело исполина, и уселся он на пол, указывая на равенство свое с хозяином квартиры, тем более, что, судя по габаритам, усесться иначе он ни на чем ином не мог, подобное выглядело бы забавным. И руки его тяжело легли на колени.
– Ты все же есть, – задумчиво проговорил мужчина, – безумие не просит разрешения. Но я, пожалуй, нездоров, если тебе рад. Неужели я прав, и эта книжка вызвала тебя?
– Все так. Прозвучало слово. Оно включило механизм программы, и я очнулся. – Существо говорило нехотя, словно про себя, озиралось вокруг, точно после сна не понимало, откуда оно и как сюда попало. Оно провело ладонью по дивану, дотянулось до стены. – Какая пропасть между знать и ощущать. Я в полусне за вами наблюдал. Я знаю все и ничего не знаю. Пришла пора знакомиться. Мне будет проще, если ты поможешь. Я чувствую, что мы нужны друг другу. Но ты меня боишься. Ты убежал.
– Конечно. Я ведь человек. Но почему Гиперион? Разве нельзя было появиться в другом обличье?
– Ты о них читал. Греческие мифы, Гераклы, Зевсы, титаны. Старался их представить. И я явился. Ты не ожидал?
– Наверное. Не знаю.
– Однако какое яркое явление на свет. – Заговорило существо о себе, гулко стукнув кулаком о грудь. – Я не стал будоражить землю, из которой вышел и в которой мои создатели меня укрыли. Но ты заметил, как потухло небо, замолкли птицы, стали выть собаки? Я не хотел явиться тайно. Мои хозяева задумали меня, чтобы украсить человеческую жизнь. Добавить ярости, волнений и тревог, внести раздор, разнообразие, отсрочить бездну. Я и актер, и режиссер. Хотя, прости, здесь режиссер – природа. Я столько лет за вами наблюдал, не смея выразить себя, и вот – свобода. Дружище, Гиперион приветствует тебя. – Он протянул руку, и невольно в ответ на этот широкий жест, собеседник подал свою и ощутил, несмотря на опаску, под пальцами живое тело.
– Ты живой? Я тебя действительно чувствую тебя или ты внушаешь мне себя?
– Я фантом, – Гигант потянулся и явственно послышался хруст костей. – Сгусток информационного поля. Не только его, но так будет и проще и понятней. Я могу быть телесен, как сейчас, и бестелесен, невидим, неосязаем. Я всегда и везде, над всей планетой, в толще вод, на вершинах гор. Но могу и собраться в ком и принять любое обличье. Могу быть камнем, зверем, человеком, воздухом, лучом света, взрывом бомбы, летящей пулей. Я наконец-то жив. О господи, как хорошо на свете. Мои создатели вдохнули в меня почти что человеческую душу. Я раб и бог, слуга и господин. Планета, – гигант накрыл своей ладонью пол, – Гиперион приветствует тебя.
То ли нервы не выдержали у собеседника, то ли было действительно смешно, когда невероятное существо вело себя словно паяц на сцене, но засмеялся он, и страх и опаска, которые до сих пор тлели невидимо в нем, оставили его. Потому что если и был он человеком, то таким, к которому спустился бог.
– Ты смертен? – вырвалась невольно фраза.
Фантом обмяк.
– Ты меня убил, зарезал, обесчестил, распотрошил, поставил на место своим вопросом. Да, верно, поставил на место. – Тяжелый вздох. – Увы, я калиф на час. Моя задача – повести людей. Незримо. Тайно. С последним человеком я исчезну. Я ваш хранитель. Пока вы есть, я буду. Чем дольше будут люди на Земле, тем дольше быть и мне на этом свете. Мои хозяева заставили меня плыть против волн, чтоб им пусто было. Одна лишь радость – я их пережил. Их кости сгнили, я лишь начинаю.
Новое озарение, вызванное словами собеседника, пришло к мужчине и опечалило его лицо. «Ничтожнейший из всех земных людей я стал причиной потрясений мира» – пронеслась в голове когда-то читаная фраза. Как бы в ответ на его сожаления, гигант продолжил.
– Не бойся, друг, я не сатана. Я люблю людей. Люди, как и мои создатели, несчастны. Вы хотите быть вечными, но не можете в силу своего естества, вы есть то, что есть. Вас не переделать. Кому, как не тебе, знать, что вас ждет.
– Ты можешь все?
– Конечно.
– Зачем ты мне? – Мужчина встал и подошел к окну, отодвинул край портьеры и посмотрел во двор, откуда доносились невнятные металлические звуки.
– Пророки слабы.
– Разве я просил?
– Ты ждал меня. Прости, я знаю все. Я читаю книги и мысли. Ты писал, что человек не вечен. Что люди перестанут быть собой. Что мало станет им дарованного тела. Что вещество, вознесшее вас к небу, способное на разум и сознание, есть новое творение природы. Что руки, ноги, сердце и любовь – все пропадет в пучине сладострастья. Ты также говорил, что звезды не нужны, а втайне думал, что они помогут. Не всем – тебе. Что те, кто обогнал людей, оставят компас. Мои хозяева оставили меня. Столетия провел я в заточенье.
– Кто твои хозяева?
– Еще не время говорить о них.
Наступило молчание. Мужчина по-прежнему смотрел в щель между портьерой и стеной во двор. В голове его не укладывалось, что раздумья о человеческой природе, которые он некоторое время назад изложил на бумаге и отправил в одно из московских издательств, облаченные в одну небольшую и никем не замеченную книжку, получили не простое, а зловещее подтверждение. «Ничтожнейший из всех земных людей я стал причиной потрясений мира» – вновь произнес он про себя. И словно вторя ему, также заговорил собеседник.
– Ты не прав – раздался голос пришельца. – Я пришел помочь, не подтолкнуть. Моя задача – умягчить удары. Ты знаешь: неизбежное свершится, но надо, чтобы было меньше бед. Мои хозяева добры и милосердны.
– Ты с ними держишь связь? – вскинул головой мужчина.
– Я не держу, они не знаю. Мне доступен разум, но не выше. К тому же, не укоряй себя, слово, сказанное тобой, носится в воздухе. Не ты, другой бы его произнес.
– Ты будешь действовать через меня, Гиперион?
– Ну что ты! Тебе я должен просто помогать.
– И как же мне с тобой общаться?
– Как с человеком. Когда я нужен, позовешь. Когда что надо делать – скажешь. Мир человеческий понятен, хоть не прост.
– Я буду звать тебя … Степаном. Внешность…? Пусть будет всякая, проста для тех, кто добр, страшна другим. Я думаю, ты разберешься. И, черт возьми, пусть будет то, что будет. Терять не так уж много. Попробуем начать все снова и ладом. Могу я испытать тебя, Степан?
– Ты говоришь о том, что за окном? Все просто. В твоей машине выпивший студент. Он хочет покатать свою подругу. Сейчас вскрыл замок зажигания, пытается завести мотор. Ты только что хотел его жестоко наказать.
– Ты читаешь мысли?
– И желания.
– Действительно… Об одном прошу: невысказанное не исполняй, слова и мысли не одно и то же.
– Как знаешь.
– Напугай навек.
Посторонний человек вряд ли что-нибудь понял бы из этого разговора, будь он ему свидетелем. И привели то мы его потому, что в нем разгадка тех ужасных и неотвратимых событий, описание которых впереди. Но зрелище, которое предстало перед ним спустя мгновение во дворе около оставленной автомашины, этот свидетель никогда бы не забыл. Семнадцатилетний мальчишка, который и выпил то вина, быть может, впервые в жизни и по глупости хотел похвастаться удалью перед знакомой девчонкой, угнав автомобиль и покатавшись с нею, дрожащей за углом дома в страхе за своего необузданного приятеля, этот парнишка вдруг застыл как изваяние за рулем желанного автомобиля, не смея вздохнуть. Огромное свирепое лицо, невесть откуда появившееся, с огромными светящимися ненавистью глазами, смотрело на него сквозь лобовое стекло. И две руки-грабли, поросшие черными волосами, торчащими словно гвозди из руки, как сквозь воду прошли через металлические стойки корпуса и охватили щупленькое горло. Как пушинку, как придавленного цыпленка вынесли они этого парнишку сквозь раздавшееся неведомым образом лобовое стекло, поднесли к зловеще открытой пасти, выдохнув на него смрад, от которого окончательно помутилась голова, и швырнули наземь. И все исчезло. Когда спустя несколько минут, томимая неизвестностью девчушка подбежала к юноше, он лежал на траве, с трудом приходя в себя, и не смогла она сдержаться, прошептав в ночи, чуть не плача: «Петька, у тебя волосы стали белые».
Так вот все и начинается. Кто-то находит кувшин в реке, кто-то проливает масло, а кто-то пишет книги, которые лучше не писать.
И вот настал день 19 мая, с которого город перестал быть прежним. Нет, все как всегда будут думать, что ничего не случилось. Что день сегодняшний есть продолжение вчерашнего. Что ничего нового этот день не принес и не принесет. Или как у библейских пророков «что было, то и будет, и нет ничего нового под солнцем». Но случилось нечто, о чем не догадывались люди. Вдруг то с одним, то с другим человеком в этом городе стали происходить странные и непонятные события. У этих событий были свидетели. Стали передаваться слухи, еще более распространяя ореол чудесности и вовлекая в свою орбиту еще большее множество людей. Словно в котле закипели страсти, и дабы приобщиться к сонму рассказчиков, нагрев, не без того, ручки, и навести в этом котле порядок, последуем и мы за молвой.
Первая несообразность случилась утром. Тогда на нее еще не обратили внимание, посчитали чем-то случайным, вернее событием, которое рано или поздно найдет свое естественное объяснение. Надо сказать, что множество совершенно посторонних происшествий позднее будут связывать с тем сонмом событий, который мы описываем здесь, какие из них действительно связаны со Степаном, а что приписывают ему и добро- и недоброжелатели. Но все они сходятся во мнении, что первая несообразность случилась действительно утром.
Когда Вася-Мерседес – небезызвестная в определенных кругах личность, «крышующая» (комментарий для россиян 90 годов двадцатого века не требуется) Колхозный рынок в северной части города, – свернул, не глядя на светофор, на своем блистающем мерседесе с улицы Кремлевской на Первомайскую, он, разумеется, и внимания не обратил, как, взвизгнув тормозами, словно вкопанная остановилась белая четверка, избегая столкновения и пропуская его. На такую мелочь, как советские авто Вася давно перестал обращать внимание и ездил по улицам, не глядя на них, так что ветераны шоссейных дорог, еще издали заметив лоснящиеся черные бока его машины, заранее готовились к всякого рода неожиданностям. Победителем в этих неожиданностях был всегда один человек – большой, широкий и веселый Вася. Два – три храбреца, что пытались на пальцах научить его правилам дорожного движения, внезапно и надолго потеряли подвижность, а одного и вообще пропал след, так что ездил черный и всегда отполированный мерседес по улицам родного города, как лайнер по морю, изредка останавливаясь на совсем уж явный красный сигнал светофора.
Тем большей неожиданностью для него стало, когда мерзопакостная четверка вдруг обогнала его и, выскочив вперед, резко затормозила. Более опешив от такой наглости, чем испугавшись столкновения, которого чудом не произошло, монументальный Вася внушительно вылез из своего линкора и, подойдя к четверке, не глядя, сунул свой огромный распаренный кулак в открытое окно водителя. Первыми у него захрустели пальцы. Боль от раздавленной, смятой в лепешку кисти еще не дошла до его мозга, как в незапамятные времена не доходила она у длинношеих динозавров (отчего они, к слову, и представились в свое время), когда распахнулась дверь и мужик, который, судя по размерам, мог вести эту машину только сидя на заднем сиденье, вышел из нее и двумя ладонями хлопнул Васю по ушам. На этом инцидент был исчерпан. Четверка тихо покатила по своим делам, а неугомонный Вася остался сидеть на асфальте, и из ушей у него текла кровь. Никогда больше в своей жизни он не слышал ни одного звука, и когда по прошествии многих недель и десятка операций на руку, вышел за ворота клиники, он всегда внимательно смотрел по сторонам и вел себя исключительно корректно с посторонними.
Юрий Александрович смеялся. Он хохотал как сумасшедший, бил своими кулачками по коленкам и бардачку, и глаза у него предательски блестели от влаги.
– Степан, ты не поверишь, как мало надо нашему человеку для счастья! – восклицал он. И вдруг взгрустнул. – До чего же все-таки жалкая и поганая у нас жизнь.
Его сосед, небезызвестное нам существо, сидел рядом, и ничем в настоящий момент не отличался от обычного гражданина. Размеры его, то есть рост, вес и прочие черты и габариты, хотя и превосходили обычные, не бросались в глаза. На нем была спортивная майка и потертые джинсы – обычная одежда летних дней. Бывалый зритель наверняка нашел бы прототип его внешности среди киноактеров, с одного из которых, увиденных в телевизионном фильме предыдущей ночью, не долго думая, Степан, как позднее выяснилось, и слизал свою внешность.
Не менее поразительным было не мгновенное, но происходящее буквально на глазах в течение долей секунд превращение этого обычной внешности человека в свирепое создание. Словно выпрямлялась внутри него тайная пружина, заставляя наливаться силой тело и наполняя лютостью взгляд, от которого цепенело все живое вокруг, не исключая диких зверей, а особо нежные натуры теряли сознание. Зрелище такое навсегда оставалось в памяти его свидетелей, о чем они до самой смерти вспоминали с содроганием, если, конечно, оставались живы.
Вторым в машине был уже знакомый нам мужчина, о котором пришла пора рассказать подробнее. Звали его Юрий Александрович Кудрявцев. Лет ему было за пятьдесят. Негустые, мягко говоря, русые волосы колыхались от каждого дуновения ветерка, выдавая натуру мягкую и нерешительную. Как уже упоминалось, судьба его действительно не сложилась, и сейчас, нежданно-негаданно получив в руки волшебную палочку, он производил впечатление человека, который не мог придумать, что ему с этой палочкой делать.
Желания его были несвязны и хаотичны. Решив купить бутыль газированной воды, он сунул руку в карман за деньгами, но вытащил лишь один смятый червонец. Забавная мысль мелькнула в его голове и, попросив Степана остановиться около ближайшего магазина (на беду магазина им оказался торговой центр «Юрюзань» на проспекте Октября, ныне, как и многие торговые достопримечательности пропавший во тьме времен), он обратился к своему спутнику.
– Степан. Ты можешь сделать так, чтобы с моих десяти рублей продавец дала сдачи, как с пятисотки? Внушить, что я дал ей пятьсот рублей?
– Как два пальца обос… заключил Степан известным и грубым словом.
Кудрявцев ошалел.
– Когда ты успел набраться этих слов?
– Не сплю, слушаю, смотрю, – меланхолично ответил Степан. – Удивительно, но жаргон более тонок, чем, официальный язык. В одном слове – десятки смыслов. Послать человека куда-то – совсем не значит послать именно туда, куда посылаешь: там и места-то для человека нет. Самое грязное может быть самым восторженным, что для других оскорбительно, произнесенное для себя – хвала. Поразительное множество эмоций при минимуме слов. Огромные внутренние сложность и богатство с унылостью внешнего выражения – в этом, наверное, ваш народ.
– Окстись, волшебник, – хлопнул его по колену удалой Кудрявцев. – Мы развеселим этот мир. Для начала внуши продавщице, что я дал ей пятьсот, нет, мало, тысячу рублей. Мне в отличие от тебя, надо кушать. И, сам понимаешь, кушать лучше хорошо, чем плохо. Договорились?
Дождавшись подтверждения, он неспешно вошел в торговый зал магазина и занял очередь. Минуты через две женщина интеллигентного вида, который ей придавали скорее очки и медлительность жестов, нежели, как вскоре выяснилось, воспитание, стоявшая позади Кудрявцева, широко раскрыла от удивления глаза и, не выдержав, пока еще вполголоса заметила.
– Послушайте, вы же дали ей всего десять рублей.
– Милочка, я и денег то таких не знаю, – величественно ответил Юрий Александрович, надменно повернув к ней голову.
Надменность возмутила гражданку и уже громче она обратилась к продавцу. Трудно сказать, что ею руководило: врожденное чувство справедливости или обида, что повезло не ей, но голос ее звенел как сталь.
– Женщина, – громко заявила она. – Мужчина дал вам всего десять рублей. Вы должные ему два рубля сдачи, но не девятьсот девяносто два.
– Не сбивайте меня, я считаю, – прозвучал равнодушный ответ.
– Вы ошибаетесь. Я видела собственными глазами.
– Очки протри сначала, – голос стал напряженнее.
– Хамка.
– От такой же слышу.
Дальнейшую перепалку приводить излишне; две разъяренные русские женщины страшнее одной чеченской банды. Забрав сдачу, Кудрявцев поспешно покинул магазин. И когда администратор и группа поддержки продавца опомнились и принялись снимать кассу, они лишь обнаружили, что мужчины давно и след простыл, и девятьсот девяносто два рубля канули в лету.
– Накладочка вышла, Степан Батькович, заметил Кудрявцев, садясь в автомобиль.
– Зато какая гамма чувств!
– Как бы не оглушила эта гамма. Тебе хорошо – растаешь, а у меня последние волосы выдернут.
– Курыкма, хозяин, поправим. Но больше, чем человек сто-двести, я одурманить зараз не смогу. Хотя, быть может, порыскать в закромах…