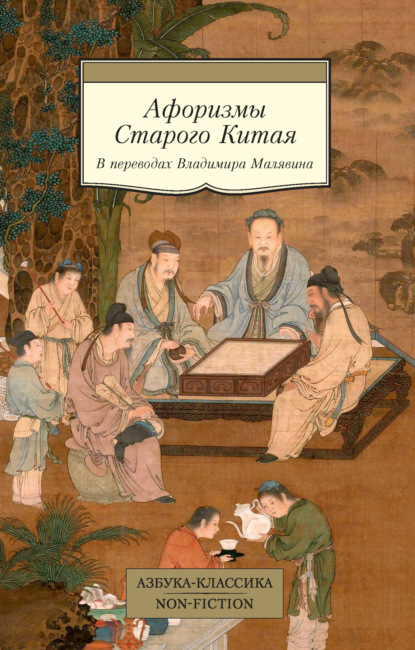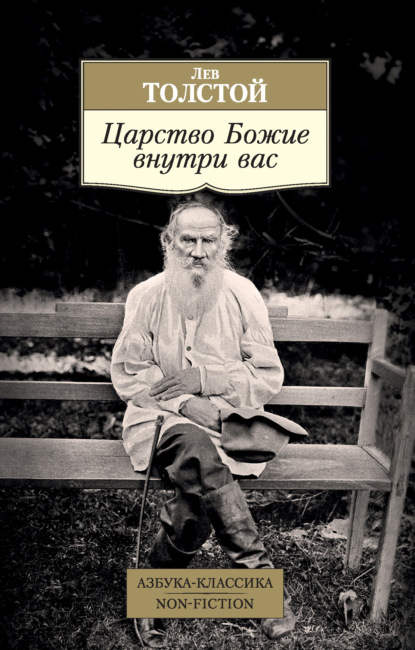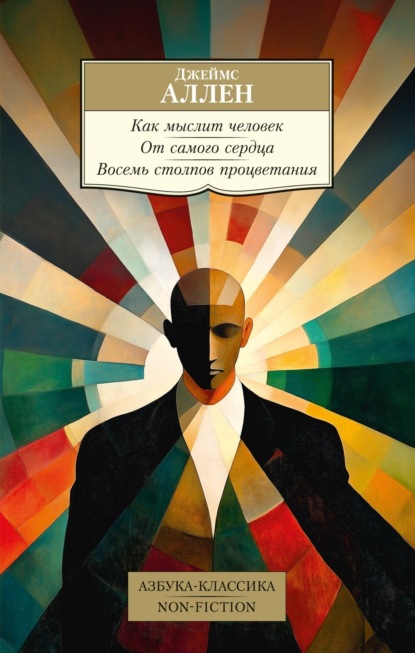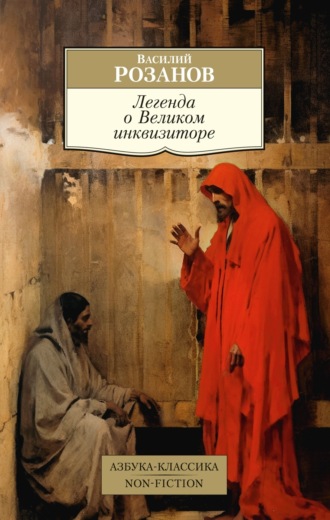
Полная версия
Легенда о Великом инквизиторе
На этом же вечере, среди веселых детских фигурок, он отмечает загнанного мальчугана, сына гувернантки в хозяйском доме, с его мучительным желанием подойти и поиграть с другими детьми, которые от него сторонятся. Детский ум уже понимает различия положений, а детская натура влечет переступить через них. Он робок и заискивающ, – такой веселый вечер повторится не скоро, – и вот он жмется к детям, затаивает обиды от них и угодливо льстит, лишь бы они его не отгоняли от себя. Вы чувствуете, что мишура и богатство – все это, как дымка, стоит в стороне; и взор автора неподвижно устремлен на то, что живет и движется под всем этим, – на человеческую душу, ее первые страдания, начальные искажения.
«Но силен ли он?..» В несколько фантастическом очерке, сюжет и тон которого повторится потом в «Униженных и оскорбленных», рассказан случай встречи одного уединенного мечтателя с оставленною девушкой. Какие странные встречи, какие задумчивые и горячие признания, и как крепко держат друг другу руку эти два одинокие и чистые существа. Во всей нашей литературе нельзя найти повести, столь же ушедшей куда-то глубоко-глубоко во внутренний мир человеческой души, откуда не слышно более людской жизни, не видно их шумной суеты. Только безлунные светлые ночи севера смотрят на них, да они сами смотрятся чистою совестью в чистую совесть друг друга. Но вот какая-то тень мелькает мимо их, когда он говорит ей какие-то бессвязные речи, указывая на небо. Это была четвертая ночь, четвертая их встреча. Она жмется к нему, рука ее дрожит. Знакомый голос, который она так любила, которому привыкла робко повиноваться, зовет ее: с криком бросается она к тому, о ком думала, что потеряла его навеки, – к своему надтреснувшему счастью, с верой в пробуждение и возврат горячей любви. Мечтатель остается один; он возвращается домой. Как постарелым показалось ему все в его одиноком углу, – и он сам, и стены его комнаты, и соседний дом. В страстном и молящем письме она объясняет ему все и просит не упрекать ее и не забывать – как и она сама сохранит о нем постоянную память. Письмо выпало у него из рук, и он закрыл лицо:
«…Или луч солнца, внезапно выглянув из-за тучи, опять спрятался под дождевое облако, и все опять потускнело в глазах моих; или, может быть, передо мною мелькнула так неприветливо и грустно вся перспектива моего будущего, и я увидел себя таким, как я теперь, ровно через пятнадцать лет, постаревшим, в той же комнате, так же одиноким и с тою же Матреной, которая нисколько не поумнела за все эти годы.
Но чтобы я помнил обиду мою, Настенька! Чтобы я нагнал темное облако на твое ясное, безмятежное счастье; чтоб я, горько упрекнув, нагнал тоску на твое сердце, уязвил его тайным угрызением и заставил его тоскливо биться в минуту блаженства; чтоб я измял хоть один из этих нежных цветов, которые ты вплела в свои черные кудри, когда пошла вместе с ним к алтарю… О, никогда, никогда! Да будет ясно твое небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна хоть за минуту блаженства и счастья, которое дала другому, одинокому, благодарному сердцу»[26].
Не правда ли, слова эти сотканы как будто из лунного света? В них то же спокойствие, то же самоограничение, та же готовность светиться только чужим счастьем.
И вдруг этот тон: «Я человек больной… Я злой человек. Непривлекательный я человек. Я думаю, что у меня болит печень»[27], – слышится мутный рокот из подполья. Перевертываем несколько страниц: «…я убежден, что не только очень много сознания, но даже всякое сознание – болезнь. Я стою на том. Оставим и это на минуту. Скажите мне вот что: отчего так бывало, что как нарочно в те самые, – да, в те самые минуты, в которые я наиболее способен был сознать все тонкости „всего прекрасного и высокого“, мне случалось уже не сознавать, а делать такие неприглядные деяния, которые хоть и все делают, но которые как нарочно приходились у меня именно тогда, когда я наиболее сознавал, что их совсем бы не надо делать? Чем более я сознавал о добре и о всем этом „прекрасном и высоком“, тем глубже яд опускался в мою тину и тем способнее был совершенно завязнуть в ней»[28]. Перелистываем дальше: «…законный, непосредственный плод сознания – это инерция. Усиленно повторяю: все непосредственные люди и деятели потому и деятельны, что они тупы и ограниченны. Как это объяснить? А вот как: они, вследствие своей ограниченности, ближайшие и второстепенные причины за первоначальные принимают; таким образом, скорее и легче других убеждаются, что непреложное основание своему делу нашли, – ну и успокаиваются, а ведь это главное. Ведь, чтоб начать действовать, нужно быть совершенно успокоенным предварительно и чтоб сомнений уж никаких не оставалось. Ну а как я, например, себя успокою? Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь, где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении, а следственно, у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собой другую, еще первоначальнее, и т. д. в бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания и мышления. Это уже опять, стало быть, законы природы».
Мелькают постыдные признания и гениальная диалектика, показываются золотые булавки, которые скучающая Клеопатра втыкает в груди своих невольниц, топчется «поэзия» известных стихов:
Когда из мрака заблужденья Горячим словом убежденья Я душу падшую извлек… —
и на бессильно опустившемся теле девушки, возрожденной и потом истерзанной, выскакивает какая-то гнусная фигура, без имени и без образа, и кричит: «Я – человек»[29].
Да, думаете вы, этот человек силен. Душа, в которой зародились столь различные звуки и образы и все эти мысли, – способна побороться со всем, с чем человек в силах бороться. Он может быть не выслушан, может быть не понят: никакой пророк не обратит песок пустыни в чутких слушателей. Но на безбрежных равнинах истории не вечно же будет лежать песок, – и тогда жатва его придет.
Одновременно с этим писателем, который так привлекает нас, выступает группа других. Вот задумчивый сквозь сон Гончаров, с его артистическою любовью к человеку, при ярком освещении солнца, среди безграничного мира Божия следит, не замечая ни этого солнца, ни этого мира, один уголок его и медленно рисует свой узор. Вот суетный и слабый Тургенев, столь даровитый, так много думавший, вводит нас в чарующий мир своего слова, роняет мысли, так запоминающиеся, и выводит ряд образов, несколько бледных и, однако, всегда привлекательных. Наконец, вот и Толстой, для мощи которого, кажется, нет пределов, открывает необъятную панораму человеческой жизни всюду, где завершилась она в твердые формы. Мы колеблемся; погруженные в выполнение своей миссии, ни одним взглядом не отрываясь от нее, эти великие художники неотразимо влекут к себе всех. Сравнительно с созданиями их, как неправильно все то, что создает писатель, за которым мы хотели бы последовать: его образы нередко искажены, его речи недостает гармонии; это как будто хаос, к которому еще не приложены мера и число, или как будто уже смешались в нем все числа и меры. Особенно сильно наше колебание при взгляде на мир Толстого: здесь не одна невыразимая прелесть созданий влечет нас, тут есть нечто другое, более глубокое и удерживающее. Для нас очевидно, что он прикоснулся к элевзинским таинствам природы, и слушает глухие звуки, и всматривается в неясные тени, припав к Матери-земле, из которой растет все живое. Он старается уловить смысл всякого рождения и каждой смерти, в узком пределе которых заключено бедное существование человека. Но древние предания говорят нам, что и там, в настоящих Элевзиниях, для посвященных открывался смысл жизни и умирания, только издали и в аллегорических образах. По-видимому, этим одним навсегда суждено ограничиться человеку.
Как ни привлекателен мир красоты, есть нечто еще более привлекательное, нежели он: это – падения человеческой души, странная дисгармония жизни, далеко заглушающая ее немногие стройные звуки. В формах этой дисгармонии проходят тысячелетние судьбы человечества. И если мы посмотрим на всемирную литературу, мы увидим, что ничей взор в ней не был устремлен с таким проникновением на причины этой дисгармонии, как взор писателя, которого мы избираем. Оттого, среди всего хаоса его произведений, мы ни у кого не найдем такой цельности и полноты, есть что-то кощунственное в нем и вместе религиозное. Он не избирает ни одной картины в природе, чтобы любить ее и воссоздавать; его интересуют только швы, которыми стянуты все эти картины, он, как холодный аналитик, всматривается в них и хочет узнать, почему весь образ Божьего мира так искажен и неправилен. И с этим анализом он непостижимым образом соединил в себе чувство самой горячей любви ко всему страдающему. Как будто то искажение, которое проходит по лицу Божия мира, особенно глубоко прошло по нем самом, тронуло его внутренний мир, и, как никто другой, он ярко почувствовал и все страдание, которое «сущая тварь» несет в себе, и приблизился к пониманию его скрытой сущности. Отсюда вытекает глубокая субъективность его произведений и их страстность: он не извне зовет нас пойти и разделить с ним его интересы, которыми мы можем заняться наравне со всякими другими, его голос доходит до нас как будто издали, и, когда мы приближаемся, мы видим одинокое и странное существо там, где никого другого нет, и оно говорит нам о нестерпимых мучениях человеческой природы, о совершенной невозможности выносить их и о необходимости найти какие-нибудь пути, чтобы из них выйти. Отсюда – болезненный тон всех его произведений, отсутствие в них внешней гармонии частей и мир неутолимого страдания, который он открывает, переплетенный с мыслью о его непонятных причинах, о его непостижимых целях.
Это-то и сообщает его произведениям вековечный смысл, неумирающее значение. Было бы анахронизмом в настоящее время разбирать характеры, выведенные, напр., Тургеневым, хотя со времени их создания прошло немного лет: они ответили на интересы своей минуты, были поняты в свое время, и теперь за ними осталась привлекательность исключительно художественная. Мы их любим как живые образы, но нам уже нечего в них разгадывать. Совершенно обратное мы находим у Достоевского: тревога и сомнения, разлитые в его произведениях, есть наша тревога и сомнения, и таковыми останутся они для всякого времени. В эпохи, когда жизнь катится особенно легко или когда ее трудность не сознается, этот писатель может быть даже совсем забыт и нечитаем. Но всякий раз, когда в путях исторической жизни почувствуется что-либо неловкое, когда идущие по ним народы будут чем-либо потрясены или смущены, имя и образ писателя, так много думавшего об этих путях, пробудится с нисколько не утраченною силой.
Туда, куда зовет он, – в мир искажения и страдания, к рассмотрению самых швов, которыми скреплена природа, можно пойти действительно, забыв и мир красоты, открываемый в искусствах и поэзии, и холодные сферы науки, слишком далекие от нашей бедной земли, которой забыть мы никак не можем. Ведь идти туда – значит удовлетворить глубочайшим потребностям своего сердца, которому как-то сродно страдание, оно имеет необъяснимый уклон к нему; и пойти с такою целью – это значит ответить на главный запрос ума, который он снова и снова высказывает сквозь все, чем пытается развлечь его наука и философия.
IVВ 1863 г. Достоевский оставил на несколько дней Париж, в котором он проводил тогда свое время[30], чтобы посетить Лондон и его всемирную выставку. В несколько беспорядочной по виду, но, в сущности, глубоко связной и сосредоточенной статье он передает о впечатлении, которое оставил в нем этот «день и ночь суетящийся и необъятный как море город», с визгом и завыванием его машин, с бегущими по крышам кварталов рельсами, с хаосом движений своих и мощью замыслов. «Отравленная Темза, воздух, пропитанный каменным углем, великолепные скверы и парки, и страшные углы города, как Вайтчапель, с его полуголым, диким и голодным населением
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
«Подросток», Ф. М. Достоевского. Изд. 3. СПб., 1882, стр. 454.
2
«Арабески», ч. 2. Жизнь.
3
Cм.: «Воспоминания о воззрениях С. А. Усова на искусство» Н. Иванцова, в кн. III «Вопросы философии и психологии». М., 1890.
4
Редактор журнала «Заря», приглашавший Достоевского написать к осенним месяцам этого года какую-нибудь повесть.
5
«Почем мы знаем: может быть, именно Тихон-то и составляет наш русский положительный тип, который ищет наша литература, а не Лаврецкий, не Чичиков, не Рахметов и проч.». Приписка Достоевского к письму.
6
Два последние – герои романа «Что делать?».
7
См.: «Биография и письма». СПб., 1883, отд. 2, стр. 233–234.
8
Об успехе «Дневника писателя» см. цифровые данные в его «Биографии и письмах», отд. 1, стр. 300.
9
См.: «Дневник писателя» за 1877 г., декабрь: «К читателям».
10
См. выше, в письме к Aп. H. Майкову.
11
По поводу Пушкинского праздника единственный № за 1880 г., с «Речью о Пушкине» и объяснениями к ней.
12
Это высказано положительно и в предисловии к «Братьям Карамазовым».
13
См. его думы и слова после кончины старца Зосимы.
14
Один разговор с Ракитиным, где он, «девственник», признается, что ему слишком понятны «карамазовские бури».
15
Разговор с братом Иваном о страданиях детей.
16
См. об этом воспоминании в «Дневн. писат.» за январь 1877 г.
17
Это название носят две центральные книги в «Братьях Карамазовых».
18
Он подробно развит, между прочим, у Ап. Григорьева в статье «Взгляд на современную изящную словесность и ее исходная историческая точка». См.: Сочинения, стр. 8–20.
19
«Мертвые души». Изд. 1873 г., стр. 258.
20
См. «Причитания северного края», собранные г. Барсовым. «Плач Ярославны», самое поэтическое место в «Слове», есть, очевидно, перенесенное сюда народное причитание. Сравни язык, образы, обороты речи.
21
В «Выбранных местах из переписки с друзьями» можно, в сущности, найти все данные для определения внутреннего процесса его творчества. Вот одно из ясных и точных мест: «Я уже от многих своих недостатков избавился тем, что передал их своим героям, их осмеял в них и заставил других также над ними посмеяться… Тебе объяснится также и то, почему я не выставлял до сих пор читателю явлений утешительных и не избирал в мои герои добродетельных людей. Их в голове не выдумаешь. Пока не станешь сам сколько-нибудь на них походить, пока не добудешь постоянством и не завоюешь силою в душу несколько добрых качеств, – мертвечина будет все, что ни напишет перо твое». («Четыре письма к разным лицам по поводу „Мертвых душ“», письмо третье.) Здесь довольно ясно выражен субъективный способ создания всех образов его произведений: они суть выдавленные наружу качества своей души, о срисовке их с чего-либо внешнего даже и не упоминается. Так же определяется и самый процесс создания: берется единичный недостаток, сущность которого хорошо известна из субъективной жизни, и на него пишется иллюстрация или иллюстрация «с моралью». Ясно, что уже каждая черта этого образа отражает в себе по-своему этот только недостаток, ибо иной цели рисуемый образ и не имеет. Это и есть сущность карикатуры.
22
См. о нем в «Литературных воспоминаниях» И. С. Тургенева («какое умное и какое больное существо») и также Ф. И. Буслаева: «Мои досуги». М., 1886, т. 2, стр. 235–239, с историческими словами Гоголя, обращенными (за несколько дней до смерти) к комику Щепкину: «Оставайтесь всегда таким».
23
Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского. Изд. 1882 г., т. 2, стр. 463 и след. Ниже указывая томы, мы всегда будем разуметь издание этого года, первое посмертное и до сих пор лучшее.
24
Напр., «Роман в девяти письмах» и «Хозяйка» в Сочинениях, т. 2.
25
Сочинения, т. 2, стр. 485–486.
26
«Белые ночи». Сочинения, т. 2, стр. 539.
27
«Записки из подполья». Сочинения, т. 3, стр. 443.
28
Сочинения, т. 3, стр. 446.
29
См.: «По поводу мокрого снега» в «Записках из подполья». Сочинения, т. 3, стр. 472–538. Единственную аналогию с этим произведением, одним из глубочайших у Достоевского, представляет «Племянник Рамо» у Дидро. Первоначальный очерк характера «героя подполья» представляет, но исключительно с комической стороны, Фома Фомич в повести «Село Степанчиково и его обитатели» (Сочинения, т. 3).
30
Это была первая его заграничная поездка. Свое первое впечатление от Европы он описывает прямо в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (Сочинения, изд. 1882 г., т. 3) и косвенно во многих своих романах, где общее чувство его к Европе выразилось даже цельнее и ярче; сюда относится, напр., в «Подростке», стр. 453 и след., имеющие большое автобиографическое значение.