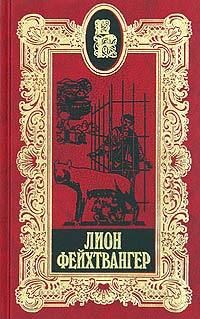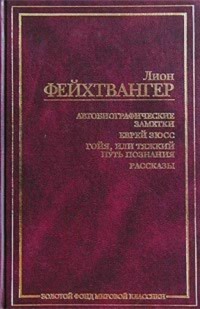Полная версия
Зал ожидания. Книга 3. Изгнание
И вот в один прекрасный день господин фон Герке очутился в кабинете доктора Вольгемута. Вольгемут удивился. Всей душой еврей, он так же глубоко был убежден в подлости и неполноценности нацистов, как они в таких же его качествах, и то, что официальный представитель ненавистных нацистов прибегает к услугам изгнанного ими врага, доставило ему большое, веселое удовлетворение.
Предвкушая предстоящее удовольствие, он приступил к делу. Обстоятельно осмотрел зубы господина фон Герке, с неприкрытым отвращением отозвался об их эстетических изъянах, нарисовал внушительную картину их неизбежного дальнейшего разрушения, в ярких словах живописал страдания, которые господин фон Герке, несомненно, испытал в прошлом, и еще большие муки, которые предстоят ему в будущем. Без всякого перехода заговорил о поразительных успехах современного зубоврачевания, заманчиво расписал, как прекрасно можно в нынешнее время преобразить даже такой запущенный рот, как у господина барона. Продемонстрировал это на фотографиях. Показал снимки с изображением зубов своих пациентов до и после применения своего искусства. Господин фон Герке загорелся. Самое сильное впечатление произвел на него уродливый рот киноактера Раймона Фонтаня, каким он был до того, как доктор Вольгемут искусно создал его сверкающую улыбку.
Но едва любитель потешиться доктор Вольгемут добился нужного ему эффекта, как он вдруг сделался очень холоден и стал деловито втолковывать пациенту, до чего трудно придать шик именно такому рту, как у господина барона.
– Да, – сказал он с профессиональной прямотой, – если бы задача состояла только в том, чтобы в гигиеническом смысле привести в порядок ваши драгоценные зубы, то не стоило бы говорить о таких пустяках. Но зубная косметика, особенно в вашем случае, – дело чертовски канительное и сложное. Спилить верхние зубы. Вылечить корни. Поставить протезы. Боже ты мой. Это стоит труда, времени, нервов, – он сделал выразительную паузу, – и денег. Когда дело идет о косметических операциях, публика не без основания опасается счетов Вольгемута. «Кто покупает у нас, платит дороже, но покупает выгоднее», как написано на вывеске одного универсального магазина в Лондоне, или, как говорили, бывало, в нашем прежнем Берлине: «Если хочешь смолоть свой кофе у Рафаэля, плати за это». Меня, собственно, выгнали из Берлина, господин барон, что вам должно быть небезызвестно, и еще немало народу выгнали из числа тех, с кем я считаю себя связанным. Я полагаю своим долгом помогать этим людям, таков уж я, а это стоит денег. Это стоит кучу денег, почтеннейший, и потому доктор Вольгемут не принадлежит к числу дешевых врачей.
Все это длинноногий Вольгемут изложил, шагая по комнате, благодушно картавя, каламбуря, треща без умолку. Господин фон Герке, конечно, давно уже поднял голову и сидел, изящный и элегантный, в роковом кресле, вежливо, внимательно слушая. Небольшое удовольствие, конечно, глотать дерьмо, которое изрыгает этот еврей. Так и хочется встать и тихо, а может быть, и не тихо захлопнуть дверь с другой стороны. Но он уже решил доверить этому ублюдку свои зубы. В конце концов, речь идет о том, что станет на всю жизнь неотделимой, незаменимой частью его тела, доступной всеобщему обозрению, – тут можно пойти на жертвы. Какую подлую шутку сыграли с ним его зубы. Парадентит-парадентоз – раз уж он влопался в такую мерзкую историю, надо испить чашу до дна.
Еще и монету хочет из него выжать этот зубодер, к тому же немалую. Какая низость. Но ничего не поделаешь. В конце концов, это единовременная трата. Как-нибудь надо это устроить, и он устроит, и не такие дела он устраивал.
А уж зубоскальство этого врача ему, конечно, нипочем. Если он думает, что его грошовая ирония сколько-нибудь задевает барона фон Герке, он ошибается. Против таких вещей у Вальтера фон Герке иммунитет. Чувство собственного достоинства, мой милый, давно вычеркнуто из нашего обихода. Этой слабостью мы не страдаем. Впрочем, кто постоянно ковыряется во рту у других людей, кто мочит пальцы в чужой слюне и вдыхает чужое дыхание, тому следует помалкивать, когда речь идет о достоинстве. Наглые выходки такого субъекта господин фон Герке может с чистой совестью пропустить мимо ушей.
И он спокойно дал Вольгемуту договорить, сохраняя равнодушное выражение лица, и даже больше того: высокомерно задрав нос, он сложил свои очень красные губы в легкую, любезную, ироническую улыбку, и, когда доктор Вольгемут наконец замолчал, господин фон Герке ограничился лишь надменным, как бы вскользь брошенным вопросом:
– Сколько же эта штука должна стоить?
– Тридцать тысяч франков, – так же вскользь бросил доктор Вольгемут.
От этой бессовестной цифры у господина фон Герке все же дух захватило. Но только на ничтожную долю секунды. «Не следует покупать дешевых вещей», – пронеслось у него в мозгу еще до истечения секунды. «Что дешево, то гнило», частенько говорила мамаша. Я и сам не раз в этом убеждался. Чем дороже купишь, тем дешевле это обходится. Другой сделал бы, несомненно, дешевле, но, возможно, и хуже. Когда дело идет о собственных зубах, не останавливайся ни перед какими затратами. Этот малый – мастер своего дела. Иначе он не запрашивал бы таких цен, да еще так нагло.
– Идет, – сказал господин фон Герке, все тем же холодно-вежливым тоном. – Тридцать тысяч франков. Сколько же это продлится и когда можно начать? – деловито осведомился он.
Доктору Вольгемуту было немножко досадно, что этот нацист не возражал и не торговался.
– Раньше, чем недели через две, – холодно ответил он, – я не смогу заняться вами. Затем в первую неделю вы мне будете нужны ежедневно, но только для коротких сеансов, для подготовки. После этого я спилю вам передние зубы, и вы правильно сделаете, если всю следующую неделю проведете в уединении. В обществе вам лучше не показываться, прежде чем я не вставлю вам новые зубы. Я считаю, что нам придется иметь дело друг с другом добрых три недели. Приятным это время нельзя будет назвать.
– Ладно, – ответил все так же непринужденно господин фон Герке и поднялся.
– Кстати, я просил бы вас, – непочтительно остановил барона почти у самой двери доктор Вольгемут, – внести половину гонорара до начала лечения. Вторую половину нужно будет погасить до того, как я окончательно вставлю вам зубы.
– Вам, вероятно, часто приходилось иметь дело с жуликами, – еще вежливее прежнего произнес фон Герке.
– Правильно, – добродушно прогудел доктор Вольгемут. – В Берлине среди моих пациентов было много ваших единомышленников. Но кое-кто из них все-таки заплатил.
После такого обмена любезностями они расстались. Вечером господин фон Герке долго и задумчиво разглядывал в зеркале свое красивое, наглое лицо, очень красные губы, мягкие белокурые волосы, гладкую, холеную смуглую кожу и еще задумчивее всматривался в маленькие, острые, испорченные, крысиные зубки. Он заранее испытывал все те муки, которые пророчил ему и так образно описал доктор Вольгемут, на случай если он не приведет в порядок свои зубы. «Пойти разве к специалисту-французу, – размышлял он. – Но я чувствую, что на эту свинью можно положиться. Если эта скотина будет дерзить, придется смириться и стиснуть зубы, насколько это возможно в таком состоянии. Париж стоит обедни». Да, у Шпицци спокойный, покладисто-наглый характер, поэтому он может себе позволить юмористически воспринимать заносчивость этого ублюдка Вольгемута.
Остается вопрос о тридцати тысячах франков. В разговоре с Вольгемутом эти тридцать тысяч франков были для Шпицци мелочью, quantité négligeable[4]. Но в данный момент это настоящая проблема, и над ее разрешением Шпицци приходится хорошенько поломать голову. Правда, в его активе значится упомянутое «деяние», «заслуга». Медведь – его должник, а одного слова Медведя достаточно, чтобы устранить с пути Шпицци любые препятствия. Но когда Медведь подкинул ему пост секретаря посольства, он сказал: «Я посадил вас в седло, а уж дальше извольте скакать самостоятельно». Ну, так только говорится, Медведь обязан о нем заботиться. Шпицци может показать свои когти, если тот его не поддержит. И все-таки глупо из-за каких-то паршивых тридцати тысяч франков брать в оборот Медведя. Пока что возьмем-ка в работу нашего старого, честного Федерсена.
Федерсен был директором парижского отделения германского Среднеевропейского банка. При заключении последнего торгового договора Шпицци оказал Федерсену услуги известного рода, за что Федерсен в свою очередь платил Шпицци известного рода одолжениями. На этот раз господин Федерсен оказался не очень сговорчив; со свойственным ему шумным благодушием он заявил, что положение Шпицци в германском посольстве, как ему кажется, несколько пошатнулось, а потому сомнительно, сможет ли Шпицци впоследствии, если понадобится, отплатить услугой за услугу.
На настойчивые расспросы Шпицци, на чем основано такое мнение, господин Федерсен сказал, что слышал из хорошо осведомленного источника, будто на улице Лилль, другими словами в германском посольстве, затрудняются указать хотя бы на одну успешную операцию, которую можно было бы занести в актив господина фон Герке; при таких обстоятельствах господину фон Герке будет нелегко удержаться на столь ответственном посту. Шпицци только улыбнулся. Этот хорошо осведомленный источник мог бы адресоваться к еще более осведомленному и узнать, что в активе у Шпицци есть такая статья, которая заранее погашает все его настоящие, прошлые и будущие векселя. Шпицци – фаталист, он убежден, что реже раскаиваешься в том, чего не делаешь, чем в том, что делаешь; к тому же он флегматик от природы. И все же «заслуга» перестанет быть заслугой, как только придется на нее сослаться, благодарность – одна из тех вещей, которые очень быстро старятся. Медведь предложил ему в будущем «скакать самостоятельно», не мешало бы, следовательно, заставить замолчать хорошо осведомленный источник. Вздохнув, господин фон Герке решил какой-нибудь новой заслугой положить конец толкам о своей бездеятельности.
Он стал размышлять. Недавно один из его агентов, некто Дитман, сделал ему предложение, довольно заманчивое, правда, но не лишенное риска. Шпицци оттягивал ответ, действуя согласно принципу, заимствованному у феодальной Испании: «Manana – лучше завтра». Несколько дней назад Дитман повторил свое предложение, подчеркнув, что вряд ли вторично представится столь благоприятный случай сварганить дельце, и настаивал на ответе. Состояние зубов Шпицци, мнение хорошо осведомленного источника, необходимость раздобыть тридцать тысяч франков – это ли не вызов судьбы? Волей-неволей он преодолел свои сомнения и, заменив собственный принцип лозунгом фюрера, решил пойти на риск.
Некто Дитман получил, таким образом, желательный ответ, в актив господина фон Герке была занесена еще одна статья, хорошо осведомленный источник переменил свое мнение, господин директор банка Федерсен снова был к его услугам, и Шпицци в назначенный день мог явиться к доктору Вольгемуту с чеком в кармане.
* * *Так он оказался сегодня в зубоврачебном кресле. За время подготовительных сеансов он привык к свирепой веселости этого зубодера, и его не удивляло более, что Вольгемут раньше, чем спилить злосчастные зубы, опять шумно любовался ими. Шпицци спокойно отнесся также и к тому, что еврей, по-видимому, с наслаждением созвал бы всю улицу, всем и каждому продемонстрировал бы отвратительные зубы национал-социалиста фон Герке. Более того, он послушно разглядывал в зеркале эти зубы, как того потребовал врач. Ведь это в последний раз, еврей сейчас приступит к делу, сегодня вечером самое худшее останется позади. «И самый твой тяжелый день пройдет».
Доктор Вольгемут исчерпал весь запас колкостей, которыми мог лишний раз уязвить мсье барона, и принялся за работу. Засунул пациенту вату между челюстью и щекой, пустил в ход зажужжавшую бормашину и начал до самых корней спиливать неприличные зубы господина фон Герке, который только крепко ухватился обеими руками за подлокотники кресла.
Шпицци сидел в кресле, одетый в халат, откинув голову, с разинутым ртом, всецело во власти Вольгемута. Нёбо, застывшее от обезболивающей инъекции, пересохло, Шпицци судорожно пытался глотнуть, характерное лицо Вольгемута с горящими глазами и густой черной шевелюрой наклонилось над ним, машина жужжала, боли не было, но ничего приятного в шуме, отдававшемся в голове, тоже не было. В сущности, он опасался, что будет много хуже. И так как опасения его не оправдались, Шпицци, слушая трескучий офицерский голос доктора Вольгемута, сыпавшего колкими каламбурами, отдался прихотливому течению своих мыслей.
«Стоит ему захотеть, – думал Шпицци, – и он может изуродовать меня на всю жизнь, поди потом доказывай. В сущности, ужасно неосторожно было довериться ему. Нет, вряд ли он рискнет. Уж очень пострадала бы его репутация. Но он мог бы и не так еще меня помучить. Попадись, например, мне в руки человек, причинивший мне столько бед, сколько причинили мы им, я обошелся бы с ним иначе. Он мог бы меня сейчас так обработать, что я забыл бы, кто я, национал-социалист или еврей, поди потом доказывай. У него нет темперамента, он просто тряпка, добродушный дурак, он не принадлежит к господствующей расе, он, слава тебе господи, ублюдок.
В сущности, замечательные вещи можно теперь проделывать с зубами. Унификация зубов. Мы его одолели, этот парадентит-парадентоз, с помощью нашей северной хитрости. Дух изобретательства могуч в человеке. Нет ничего могучее человека. Как, должно быть, в прошлые времена страдали от парадентита. Сто лет назад такая красивая физиономия, как моя, была бы обезображена на всю жизнь.
Тридцать тысяч франков. Он, конечно, нагло лжет, будто помогает эмигрантам. С ума он сошел, что ли. Гнусный еврей-ростовщик. Собственно, мне следовало бы питать к этой свинье глубокое отвращение. Но видно, мой боевой дух несколько ослабел. Этот еврей мне совсем не противен, наоборот, он мне очень симпатичен, хотя он вел себя со мной, точно он сам Геббельс.
До чего он усердствует. До чего потеет. Тут одной физической энергии уйдет на тридцать тысяч франков. Отвратительная работа. Когда-то зубодеров относили к одному цеху с брадобреями. А теперь их принимают за полноценных людей.
Если он действительно отдаст эти деньги эмигрантам, если он решил утереть мне нос, да еще и гордится этим, то и я ему основательно напакостил. Вот уж действительно никогда не знаешь, смеяться или плакать. По-моему, со стороны это похоже на курьез: славный Беньямин оплачивает издержки, которые мне приходится нести в пользу эмигрантов.
В самом деле совсем не больно. Хотя приятного мало.
Как это Дитман попался, черт его побери. Очень уж глупо. До сих пор он не давал маху. Сначала, казалось, все шло как по маслу. Возмутительное свинство».
По существу Шпицци не желал редактору Беньямину ни худа, ни добра. Шпицци не знал больших страстей. У него была только одна действительная потребность – веселиться. И он считал, что добиваться от общества удовлетворения этой потребности – его право. Уж она одна оправдывала поручение, данное Дитману. Но теперь, когда дело осложнилось, Шпицци испытывал нечто вроде неприятного похмелья.
И все-таки не комично ли: зубодер Вольгемут гордится, что выжал у него, у нациста, крупный денежный куш для эмигрантов, между тем как раздутый счет этого еврея лишь содействовал похищению славного Беньямина. Если представить себе связь событий, то получается великолепная шутка. Медведь – охотник до таких шуток. Достаточно рассказать ему об этой потехе, и Шпицци опять будет пользоваться его благоволением.
Такие мысли бродили в голове господина фон Герке, пока доктор Вольгемут возился с его челюстями, сверлил, подтачивал, пилил. Наконец он вынул вату и позволил Шпицци закрыть рот.
– Полощите, – приказал доктор Вольгемут.
Шпицци охотно повиновался. Он прополоскал рот, провел языком по тому месту, где еще несколько минут назад торчали зубы. Было очень странно касаться языком беззубых десен, ощущать неровные, окровавленные пеньки, чужие, безжизненные от наркотического снадобья.
Затем Вольгемут принялся за корни: по его выражению, он производил уборку в каналах корней. Действие наркоза ослабело; нёбо у господина фон Герке стало пощипывать. Доктор Вольгемут еще долго и деятельно возился во рту мсье барона. Он зажимал ему зубы и пеньки маленькими тугими кольцами, которые врезались в десны, снимал восковые оттиски и делал гипсовые слепки челюстей – приятным это занятие нельзя было назвать.
Работая без устали, доктор Вольгемут рассуждал по поводу новых зубов мсье барона:
– Время от времени я хожу в театр и любуюсь своими зубами. Я, конечно, имею в виду зубы Раймона Фонтаня. Откровенно говоря, я недоволен ими. Они слишком ослепительны, слишком красивы. Таких красивых зубов не бывает. У господа бога они столь совершенными не получаются, сотворить такие зубы может только доктор Вольгемут. Долго я бился с упрямцем. «Красивее, когда не так красиво», – объяснял я ему. Но с этими актерами сладу нет. Очень уж они тщеславны. Не повторяйте той же глупости, мсье барон. Советую вам, пока не поздно. Я даю вам хороший совет. По-моему, если хотите знать мое мнение, те зубы, которые вы выбрали, слишком блестящи. Не надо, чтобы ваши драгоценные новые зубы были чересчур красивы. Посмотрите: вот эти на полтона тусклее, на полтона желтее. Они вернее произведут впечатление настоящих.
– Лучше все-таки те, блестящие, – прошамкал беззубым ртом господин фон Герке.
* * *Только около девяти часов вечера доктор Вольгемут отпустил наконец Шпицци; он и сам очень устал, но был доволен. Он разглядывал чек, врученный ему господином фон Герке; это была вторая половина гонорара – чек на пятнадцать тысяч франков. Он с любовью оглядел его, потом запер в ящик. Завтра фрау Траутвейн чистенько напишет адрес, и деньги будут отправлены комитету помощи немецким эмигрантам. Доктор Вольгемут горд, что сумма так велика, и еще более – что он так остроумно и хитро вытянул у Герке деньги. «Вероятно, так же, как себя чувствует сейчас мсье барон, – думал Вольгемут, – чувствовал себя в свое время канцлер Аман, когда вел через весь город под уздцы любимого коня царя Ахашвероша, на котором восседал торжествующий Мардохей, и скрепя сердце славил перед всем народом этого Мардохея».
Доктор Вольгемут ошибался. Господин фон Герке отнюдь не чувствовал себя, как в свое время канцлер Аман.
Он поехал домой, лег в постель, принял болеутоляющее и велел принести себе бутылку старого вина. Ему заметно полегчало, совсем не так уж неприятно было провести вечер дома и в полном уединении. Он просмотрел вечерние газеты, потом отобрал несколько книг – давно, хотя бы в порядке выполнения служебных обязанностей, ему следовало их прочитать – и остановился на романе, автором которого был большевиствующий литератор, а темой – судьба германских антифашистов. Господин фон Герке читал с интересом, не без эстетического удовольствия, временами сильно увлекаясь.
В книге упоминалось о судьбе писателя Теодора Лессинга, которого «ликвидировали» национал-социалисты, и господин фон Герке, читая это место, подумал о редакторе Беньямине. До чего глупо, что эта история не прошла гладко.
Он откинулся на подушки и машинально провел языком по пенькам, временно заложенным ватой и залитым воском. Через две недели, самое позднее – через три он сможет показаться в кругу приятелей в блеске новых зубов: он будет смело улыбаться ослепительной, сияющей улыбкой. Мысли о редакторе Беньямине исчезли. Шпицци приподнялся, отхлебнул несколько глотков бургундского, снова взялся за книгу. Роман большевиствующего писателя захватывал его все больше и больше. «В сущности, – подумал он, – писатели-эмигранты должны быть нам благодарны за великолепные сюжеты, которые мы им поставляем».
6
Искусство и политика
Хотя Зепп Траутвейн после исчезновения Беньямина первый заподозрил, что тут замешана германская полиция, его словно громом поразили официальное сообщение швейцарской полиции и арест Дитмана, подтвердившие его догадку.
Он думал, что для него такие слова и понятия, как беззаконие, нарушение человеческих прав, насилие, значили всегда больше, чем для других. После похищения Фридриха Беньямина он убедился, что раньше и для него это были лишь слова. Только теперь они стали реальностью. Он видел, он осязал беззаконие, оно хватало его за горло, душило. В «третьей империи» произошло немало гнусного, невообразимо жестокого, что близко коснулось его; у него были друзья среди убитых, среди заключенных в концлагерях. Все это бледнело перед похищением Беньямина.
Его охватила ярость против похитителей. Он ругался нещадно. Ругал и Беньямина. «В Базель ему приспичило, в пограничный город, этакий болван, этакий круглый идиот, этакая чугунная башка», – бранился он, и себя он ругал за то, что не отговорил его от поездки. Но, несмотря на эту ругань, всю его неприязнь к Беньямину, добродушное презрение к его сибаритству, к рабской зависимости от Ильзы смыло без следа. Их сменила огромная щемящая жалость к исчезнувшему. Образ Беньямина с каждым днем становился для него все более светлым, ему казалось, что он в чем-то виноват перед Беньямином. Он смеялся над собой, но от чувства вины избавиться не мог.
В редакции ему отвели стол Беньямина. Это был потертый письменный стол, похожий на тысячи других, но он внушал Траутвейну, не знавшему ранее подобных ощущений, какой-то суеверный страх. Присутствие отсутствующего Беньямина он ощущал более непосредственно, чем это было когда-либо в действительности. Когда он садился за его стол, ему казалось, что в кресле сидит бесплотный призрак его предшественника. Он старался представить себе реального Беньямина таким, например, каким он сидел против него за столиком в ресторане «Серебряный петух», – жующим, вытирающим рот салфеткой, но ничего не выходило; даже этот смакующий свою еду Беньямин, живший в его воспоминании, становился бесплотным, от него исходил слабый зеленоватый свет, каким в детских пьесах, которые Траутвейн видел мальчиком, освещались привидения; этого Фридриха Беньямина и каждое его слово сопровождала, точно Каменного гостя, тихая, страшная, призрачная музыка.
Траутвейн никогда не любил Ильзу Беньямин, но он не мог забыть звука ее голоса, когда она сказала: «Ну помогите же мне». Этот голос каждый раз вновь жалил его и вновь вызывал сострадание и гнев. Ему мерещились караульные и полицейские, он видел, как они набрасываются на Фридриха Беньямина, видел этих тупых, грубых жителей деревень и городских предместий, откуда вербовались полицейские, которые теперь тешились над ненавистным евреем, давая волю своим темным инстинктам.
Так думал и чувствовал Зепп Траутвейн, когда Гингольд предложил ему окончательно занять в редакции место Фридриха Беньямина. Предложение это взволновало Траутвейна. Он знал: если он примет его, придется надолго забросить музыку.
Но совесть не позволяет ему отклонить предложение Гингольда. Как один из редакторов «Парижских новостей», он будет ближе к источникам информации о Фридрихе Беньямине, сможет быстрее предпринять необходимые шаги, войти в контакт с крупными европейскими газетами, успешнее бороться за дело Беньямина. А дело это не оставляло его в покое. От увезенного, замученного Фридриха Беньямина, от его письменного стола, даже от его неприятного голоса, звучавшего в ушах у Зеппа, исходила магическая сила, против которой он тщетно боролся, взывая к своему рассудку.
В состоянии полной нерешительности, какой он еще никогда в жизни не испытывал, он попросил дать ему время на размышление.
Обсудил этот вопрос с Анной. Она стала отговаривать его с горячностью, какой он никак не ожидал.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Я сыт этим по горло(англ.).
2
Озорник(фр.).
3
Наставник Германии(лат.).
4
Величина, которой можно пренебречь(фр.).