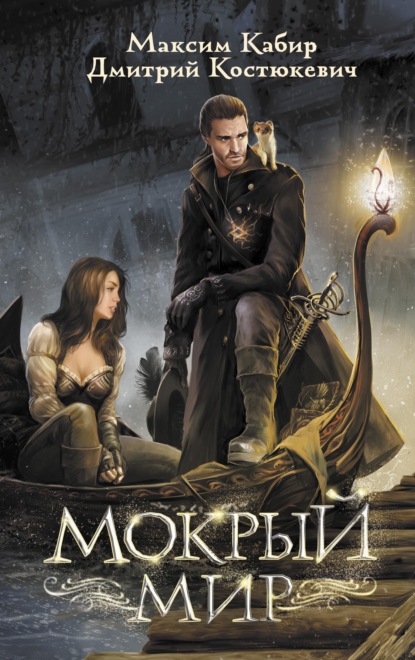Полная версия
Костяной
Луна уже падала за горизонт, краснела, как остывающая болванка; две звезды, одна за другой, скатились к западу наискосок.
Фемур оказался быстрым конем, и бесшумным тоже. Светло-серый, в едва заметных яблоках, с короткой гривой и скромным хвостом, он летел, как точно выпущенная стрела. Видно, застоявшись, радовался скачке. Не знаю, любил ли он свою прежнюю хозяйку; да я и не думал об этом под догорающей луной.
Один раз мне послышался далекий вой. Потом – чуть ближе.
Я надвинул капюшон. Как бы ведьма не снарядила погоню.
По обочинам деревья-мертвецы вставали из неглубокой воды, черные и покрытые светящимися пятнами. Бело-голубой свет отражался в глади, по которой иногда пробегала рябь. Потом вода отступила, но свет не исчез. Меж трухлых стволов летали бледно-зеленые точки ночных насекомых; перемигивались у лысых древесных вершин еще какие-то огни.
Зрелище это почему-то наполняло сердце тоской, но не темной, а светлой. Хотелось верить, что самые лучшие, яркие моменты моей жизни были хоть чем-то бо´льшим, чем светящаяся гниль на трухлой тверди; хотелось, да не моглось.
Вскоре мне послышался какой-то посторонний звук. Кажется, позади. Но как я ни поворачивал голову, расслышать получше не получалось. Я даже снял капюшон, потом велел Фемуру ступать помедленнее.
Потом остановился, чтобы прислушаться.
Так и есть.
Я спешился, отошел на обочину, за деревья. Вгляделся в темноту.
На дереве рядом открыла глаза птица, бесшумно снялась с дерева и так же бесшумно улетела, точно призрак. Сова.
Я опустился на колено и приложил ухо к земле.
Да, за нами, определенно, была погоня. Но не по лесу, а по дороге.
И намного ближе, чем я думал.
Я уже слышал топот напрямую, как и хриплое дыхание. Положил руку на пустые ножны. Эх, если бы я не слез с коня, я мог бы проверить, правду говорят о нем или врут.
Фемур заржал. Я метнулся к нему, подхватил увесистую палку с влажной палой листвы, и тут увидел это движение, темную тень и горящие глаза. Когда оно прыгнуло, за ними остались смазанные полосы.
Раздался рык в полный голос, короткий шум и почти человеческий крик коня.
Я выскочил на дорогу.
Они танцевали в неживом свете гниющего леса, бледный конь и тяжелый черный зверь с длинной мордой, словно волк, только огромный, едва ли не с коня ростом. По светлому плечу Фемура струилась синевато-черная в темноте кровь. В ней текущими полосами отражались светящиеся деревья.
Я бросился к ним, яростно крича, и взмахнул дубиной. Голубые огоньки пробежали по осклизлой древесине, и я чуть не выпустил оружие из рук.
Фемур отпрыгнул в мою сторону, зверь – в противоположную. Потом нагнул голову, припал на лапы и ощерился.
– Убирайся к Бетони! – заорал я во весь голос.
Какое-то мгновение я думал, что он нападет. Прыгнет на меня и положит конец этому длинному-длинному дню. Но он замешкался, и я вскочил в седло. Я боялся, у Фемура подогнется раненая нога и я полечу кубарем, но нет, он лишь раз оступился, прежде чем сорваться в галоп.
Мы бежали из тех мест как могли. Фемур вынес меня, и нас нагнал разве что тяжелый, дрожащий рык, который зверь бросил нам в спину.
* * *Под пристальным взглядом звезд я чувствовал себя неуютно; лес по правую руку шуршал, скрипел, вздыхал, иногда окликал меня голосом совы, провожал взглядом белых глаз; ощупывал щелчками летучих мышей, дразнил горьким запахом желудей.
Коню моему становилось худо. Он шагал, запинаясь, сбиваясь на какой-то неуловимо другой способ переставлять конечности; я подумывал над выражением «идти рысью», и по спине начинали гулять мурашки. Фемур теперь двигался как хищник.
Кожа его натянулась на лопатках, живот раздулся на какое-то время, но быстро опал; шерсть начала было линять, потускнела и встала дыбом.
Изменился запах коня. От него теперь тянуло мускусом и мокрой псиной. Что-то с моим конем было не то.
Видно, существо, укусившее коня, оказалось оборотнем, и Фемур менялся прямо под седлом. Я гадал, не догнала ли нас тогда сама Бетони, обернувшаяся зверем?..
Ночь была на исходе. Мы приблизились уже к Козьей чаще.
Громко заскрипело дерево, я обернулся на звук, а когда повернулся обратно, на дороге стоял Кровожадный, протягивая ко мне чудовищно длинную руку. Меня бросило в жар от неожиданности. Его темную фигуру едва было видно в темноте, но от числа фаланг на пальцах меня как-то замутило.
И еще мне не понравилось, что Фемур остановился. Он же должен был выносить ездока из любой неприятности, разве нет?..
Страх инеем посыпался мне за воротник.
– Не обманул, – сказал Кровожадный. – Но что-то твой конь не слишком хорош. Пожалуй, я съем и тебя тоже.
Чудище продело когтистый палец в кольцо трензеля.
Фемур молча посмотрел на Кровожадного, потом сделал шаг навстречу. Открыл пасть, непомерно огромную, оголив раздутые десны, как влажный розовый клюв, со щелчком распахнул челюсти на неимоверный угол и взял Кровожадного за голову острыми треугольными зубами, раздробив ее, как замотанный в рванину глиняный горшок.
Кровожадный дернулся только раз, всплеснул руками, а конь заглотил его в четыре укуса.
Я сидел, боясь шелохнуться. Но Фемур просто мотнул головой, морда его разгладилась, только глухо заурчало внутри. И мы поехали дальше как ни в чем не бывало.
У огромного пня он остановился, сунулся на обочину, мордой в лес. Зашел в темноту меж деревьев. Я уж думал, что он собрался охотиться, но тут что-то тускло блеснуло в темноте.
Фемур нашел мой меч.
Я поднял оружие, и мы вернулись на дорогу.
* * *Под утро, в молочно-белом тумане, я остановился и осмотрел, коня, как мог.
Его била дрожь, иногда пробегала судорога, словно там, внутри него, под конской шкурой, ворочался зверь.
Я промыл его рану вином, потратив все, что у меня было, и, отрезав полосу от плаща, перевязал.
Я чудовищно вымотался и очень хотел спать. Есть тоже, но есть было нечего, а для сна ничего не требовалось, кроме дикой усталости и плоской земли. И то, и другое имелось, и я уснул через полминуты.
Проснулся скоро, от какого-то кошмара и голода.
Рядом нашлось озеро. Я сел на поваленное дерево, смастерил удочку – нить у меня была.
Мне удалось поймать рыбу, и я запек ее в глине. На какое-то время это сделало меня счастливым.
Позади, далеко-далеко, мне почудилось конское ржание. Я не хотел ни с кем встречаться и поспешил взобраться в седло.
Внешне Фемур уже вроде пришел в себя, только словно похудел, и мы продолжили путь.
…Наступало утро. Туман утекал в лес, прятался за деревья, уходил в землю до ночи. Тоскливо кричала где-то птица; может, у нее что-то не заладилось с утра. Лес стоял безмолвный, словно отвернулся от меня.
Мы ехали в этом тумане тихо, как призраки. Так же тихо с морды Фемура падала пена. Ему все-таки было нехорошо.
Я спустился в урочище, к пещере за каменной дверью. Спешился у ступеней. Пришла пора сделать последний шаг, то, ради чего все это было. Прости, Мерна, я надеюсь, что ты простишь меня, но больше всего я надеюсь, что ты никогда не узнаешь.
Безучастное небо светлело над головой. Глаза коня отсвечивали белым, словно на дне их тлело слабое, неживое пламя; шерсть на загривке топорщилась, он был мокрым от тумана, но, как мне казалось, и от слабости тоже.
Я вынул из сумки, из темного холста, яблоко, бледное, как плоть под луной, и протянул его Фемуру.
Конь посмотрел на меня измученным взглядом и взял.
И тогда, убедившись, что он съел яблоко, не выплюнул, проглотил, я вытер липкие руки о плащ и приблизился к лестнице.
Где-то вдалеке мне снова послышался шум. Может, какой-то зверь бродил в чаще.
Я потянул за веревку, скрытую в ветвях, и, наверное, где-то в недрах пещеры раздался неслышный мне звон.
Камень расступился, и Хорнбори вышел ко мне, в серебряной шапке, в кожаном кузнечном переднике. Я знал, что за внешними каменными дверями есть и внутренние. Уж гномы умели основать неприступное логово. Мелкие, но рукастые недомерки. Я вот не могу соорудить ничего прочнее шалаша.
Хорнбори спустился ко мне и крепко поздоровался за руку. Я вдохнул и выдохнул как можно тише, закусил губу и тут же отпустил. У меня еще был шанс сделать шаг назад, шанс сказать.
Но Мерна. Только ради тебя, сестра. Только. Пусть меня считают не совсем человеком, пусть я совершал преступления и едва не был за них казнен, но это – только ради тебя.
– Принимай товар, Хорнбори, – сказал я.
Вот и все.
О Мерна, я надеюсь, еще не поздно; надеюсь, я узнаю тебя, когда увижу. Я так стараюсь, Мерн, пусть мы с тобой похожи только глазами – мои рыжие, как ржавая пыль, твои оранжевые, как янтарь; но я поклялся защищать тебя, сестра, и не нарушу эту клятву.
Гном принял Фемура, восхищенно оглядел его. Тот стоял смирный, глаза стали лиловыми, никакой огонь не бегал в них, искры не гуляли по шерсти, и сама она улеглась, не топорщилась.
– Твоя красавица покрасит его в черный?
– Заказчик не оговаривал. Погони не было?
– Было много всякой мути, – сказал я, – но все осталось по ту сторону Гемоды.
Я врал, конечно. Все, кроме зверя, которого, не ведая того, Хорнбори держал за уздечку.
– А как там Грани?
– Грани Кровожадный отнял, прости.
Хорнбори только вздохнул.
– Ладно. Славный был жеребец, надеюсь, он не мучился.
– И я надеюсь, – сказал я ровным голосом, вспоминая дикий крик коня, гнавшийся за мной по чащобе.
Гном отдал мне мешочек с золотом. Я взвесил его на ладони, тяжелый, холодный, какой-то весомо ненужный. Он не мог ничего искупить, и я прикусил свой лживый язык, чтобы не отказаться от награды.
Но я лишь поблагодарил и попрощался, и мне оставалось лишь ждать, когда яблоко Бетони сделает свое дело. Ждать и вспоминать.
– …Кто-то рыщет здесь, я чую, – сказала ведьма, подняв занавешенные кожей глаза к небу. – Кто-то пришел.
– Это я, Бетони, – ответил я, выходя из-за сожженной молнией сосны. Да, я дождался удобного момента.
– Снова ты, Альбин, – сказала она сыпучим и жестким голосом, будто два камня-песчаника потерли друг о друга. – Отвернись, я затяну шнуры.
Я продолжал глядеть в упор.
Она молча посмотрела на меня черно-серыми щелями невидящих глаз. Потом отвернулась сама, сгорбилась.
Но я-то видел ее отражение в стекле окна.
Она потянула за шнуры на висках, и кожа стала натягиваться на лицо, как маска. Появились мерзкие глаза, маленькие, круглые, словно иссохшие, похожие на смородину. Ввалившийся нос, крупный рот – я видел синевато-белые, как разбавленное молоко, зубы, пока сухие серые губы натягивались на челюсть, где им должно быть.
Лицо ее встало на место. Она повернулась ко мне. Помятые красные глазки уставились на меня.
– Пошли в дом, сядем за стол, – сказала Бетони. – И рассказывай.
…Я смотрел, как за Хорнбори и Фемуром закрывается дверь. Вдалеке, очень вдалеке, стрекотала сорока, кто-то тревожил ее.
Я достал ключ и сжал его в руке, просто чтобы что-то сжать, иначе я сломал бы себе пальцы.
– …Я знаю, что ты будешь просить, – сказала ведьма. – Мне интереснее, что ты пришел предлагать.
– Я хочу вернуть сестру. Я знаю, что тебе нужна чужая краса, чтоб держать свои кости вместе. И я предлагаю сказочную красавицу, если ты вернешь мне Мерну.
– И кого же? Неужели эльфку? Так об нее я обожгусь, друг Альбин, я уже пробовала. Нет, друг Альбин, ступай домой – вечер поздний, а ввечеру тут всякое ходит, – сказала Бетони и довольно захихикала.
…Я чувствовал, что пора пришла, и подошел к закрытым дверям гномьей пещеры. Яблоко уже должно было подействовать.
Лучше б вы, парни, добывали руду. Лучше б я никогда вас не знал.
Я вытащил меч.
– …Не эльфийку, Бетони. Я добуду тебе гномиду. Об нее ведь не обожжешься.
Бетони замерла, уставилась на меня. Настолько неподвижно, что я бы побился об заклад, что это тело мертво, если б не говорил с ней секунду назад.
– Как ты хочешь это сделать? – спросила она.
– Через третьи руки я заказал у гномов-конокрадов Фемура, и теперь он согласится впустить твоего коня в свои пещеры. Ты славишься умением превращать и превращаться, так ты сможешь обернуться своим конем, или вроде того?
Она задумалась. Ненадолго.
– Не совсем так, но есть способ. Ради такого дела найду.
– Так правду говорят, что они красивы?
– Правду, друг Альбин, а как же неправду. Сами гномы любят рассказывать про страшных-бородатых, чтоб своих красавиц уберечь. А на деле милее гномки девы не сыщешь. Только их сильно, друг, стерегут. Даже один от другого.
– Я тебе не друг. У меня есть ключ от ее покоев.
Я не стал рассказывать, как Наин втайне сделал копию ключа, влюбившись в невесту Хорнбори; как поссорился с ним и был изгнан, и как проболтался мне о красоте девицы, страдая от безответности и разлуки.
Как погиб, и как я выгреб ключ из его костей.
Но Бетони и так согласно кивнула страшной головой.
…Я приложил ухо к камню. Чтобы услышать ржание, переходящее в рык, и удары, и крики. Меня затошнило, из моей спины прорастали ледяные иглы ужаса.
Там зверь, которого я впустил, которого накормил яблоком ведьмы, вырвался на волю, и никто ничего не мог с этим поделать. Неприступная крепость гномов погибала изнутри.
– …Возьмешь Фемура на конюшне. Ты пахнешь мной, и он пойдет к тебе. Помни, здесь мои земли, и до самой Козьей чащи никто не тронет тебя без моего дозволения. А с моего… Сейчас Баргеста позову, ступайте, а он вас нагонит. Почуешь его – попридержи коня, а как дело будет сделано, шугни его моим именем. А после продолжай путь.
А дальше, чтоб ни стало – не бойся, только перед пещерой дашь коню яблоко, что я приготовлю. Привезешь гномку мне – и Мерна твоя, двоих мне не надобно. А что ж ты, друг Альбин, на гномов зло затаил?
– Нет, – ответил я. – Они хорошие мужики.
– Любишь сестру?
– Никого нет дороже, старая ты тварь.
– Это хорошо, – обрадовалась Бетони. – Значит, будешь стараться!
Она смеялась, и какая-то ночная птица вторила ей криком из лесов за рекой.
…Дверь распахнулась наружу, и они выбежали мне навстречу, двое – Хорнбори и Мили, я его видел однажды, и давно. Фемур выскочил вслед за ними, роняя кровь с клыкастой морды. Он весь был забрызган.
– Альбин, беги! Эта тварь заколдовала коня!
Я молча прошел мимо, с мечом наголо, отодвинув гнома. Зверь сунулся мне поперек дороги.
– Именем Бетони, – прошептал я.
– Альбин! – закричал Хорнбори, бросаясь на меня. Я ударил его крестовиной меча, и он покатился с разбитым лицом. Да он и так истекал кровью.
Я направился к двери в задней стене огромной мастерской, переступая части маленьких тел.
– …Жаль, я не могу решить это по-другому. Я бы многое отдал, чтобы заставить тебя страдать.
– Если б не я, вы с сестрой уже костьми б легли на болоте, друг Альбин! – Бетони закончила колдовать над восково-белым яблоком, плюнула на него и насухо вытерла рукавом. Меня передернуло.
– Не зови меня другом.
– А чего ж не звать-то, друг Альбин? Твоя мать так сильно сыночка просила, что я не смогла ей отказать. Только, сказала, сын твой мне послужит однажды.
Я в ужасе вытаращился на нее, не в силах понять, врет она, бредит или ни то, ни другое.
Бетони засмеялась железным, трескучим смехом.
Я поднялся, вдохнув сухим от страха ртом, и молча выскочил за дверь.
…Я повернул ключ. Рука почему-то не дрожала. Толкнул дверь и вошел в покои.
Она сидела спиной к стене, в зеленом кресле, в лиловом платье, миниатюрная, тоненькая, с сияющей кожей открытых плеч, огромными прозрачно-зелеными глазами, фарфоровая и бархатная одновременно.
Она не спросила ничего, только затаила дыхание, испуганно глядя на меня.
Горячие, как лава, слезы ужаса подступили к моим глазам и жгли их так же, как мою душу.
Я протянул руку, схватил за сказочную ручку и дернул на себя. Она казалась невесомой.
Я взял ее на руки и понес к выходу по залитому кровью полу. Хорнбори пытался выговорить что-то, видно, проклятие, но я обошел его. И вышел на свет.
Сорока кричала ближе. Да, кто-то преследовал меня, но кто? Я не ждал погони.
Я обмер, когда из-за елей выехал рыцарь на гнедом коне, и к его стальной груди прижималась дева с медными волосами.
Мне стало холодно и жарко посреди устроенной мной бойни.
Ибо то был Мадок и моя сестра.
Я посмотрел в ее глаза, побледневшие, выцветшие, но все еще с искрой. Посмотрел на лицо.
– Мерна?..
– Альбин?..
Я поставил гномку на землю, и она упала на каменное крыльцо без чувств.
Мадок молча выдернул меч.
Да, он спас ее, нашел ее, это его чуяла ведьма в тот вечер и не поехала его искать только лишь из-за меня.
Ну хоть как-то я помог сестре. А сейчас ее жених зарубит меня и будет прав.
– Что ты наделал, Альбин?.. – Мерна закрыла руками лицо, только глаза жгли меня насквозь. – Беги, брат, беги!..
Я свистнул Фемуру, вскочил на это чудовище с окровавленной мордой, и мы бросились через лес напролом, под крик сестры, ради которой я утопил свою душу в чужой крови.
* * *Мне иногда по-прежнему снится болото. Не дом Бетони, не кровавая бойня у Хорнбори, не сестра и не гномка. Мне снится болото Гемоды, как воплощение всего, что случилось, и перед каждым пробуждением я жалею, что выбрался оттуда.
А после пробуждения жалею еще сильнее.
Эффект дефекта
Станция подземки была заброшена, стенки тоннеля заплели корни; рельсы тускнели и уходили в темноту, словно в никуда, терялись под слоем темных листьев, которые намело за многие годы через сорванные двери наверху. Казалось, если пойти по рельсам вперед, то навсегда потеряешься в каком-нибудь другом мире.
Впрочем, путь вверх по лестнице обещал почти то же самое. Эти края сильно отличались от города.
Листья лежали на ступенях, на плитах пола, и на многолетних слоях светлела россыпь свежего листопада. А может, это и правда падал сверху лунный или еще какой свет.
Было холодно и сыро; каменный свод тоннеля покрывала изморозь, и рельсы казались от нее матовыми. На стенах чернели замшелые полосы – весной здесь высоко поднималась талая вода. Но она так и не вымыла запах креозота. Запах гари тоже никуда не ушел; впрочем, он был слабым и почти незаметным – еще один призрак этого места, не более.
Звери спускались сюда как к себе домой, и не все следы можно было узнать. Змеи водились здесь в изобилии. Часто они сползались на лестницу, иногда забирались на старые, позеленевшие медные люстры.
Но сейчас стояла осень, и змеи уже спали. Свет фонаря за спинами двух мужчин не мог их потревожить, к тому же в основном лучи упирались в плащи и широкополые шляпы, не достигая ни перрона, ни подножия лестницы. Холодные непрозрачные тени валились вперед. Но сверху от невидимого входа все же падал какой-то свет, и он становился тем заметнее, чем больше глаза стоящих в тоннеле привыкали к темноте.
Свет был чуть розоватый и голубой. Не луна так светила над одичавшим парком, не луна мигала где-то вверху, как газовая вывеска, заставляя пятна чуть плавать по недвижным очертаниям стылой, брошенной станции.
– А правду говорят? – спросил наказатель, поставив ногу в кожаном сапоге на заиндевевший рельс, и кивнул наверх, в озаряемую мягкими вспышками тьму. Тускло блеснули его очки.
– Ну так, – неопределенно согласился собеседник, выпуская поводья лошади.
В спину приехавшим по тоннелю светил желтый фонарь, укрепленный на двуколке. Они прикатили сюда по рельсам, на сменных колесах. Дрезины им не выделили – ее было не перетащить через завалы на старых рельсах.
– Ответ, достойный дознавателя.
– Какой вопрос, такой и… – Дознаватель подошел к наказателю и встал рядом. Редкие капли падали со свода на широкие поля шляп. Оставленная в одиночестве лошадка протестующее фыркнула в суровые спины. – Тем более я привык спрашивать, а не отвечать.
– Разворачиваться вручную будем, круг, видно, засыпало, – сказал наказатель, подбросив носком сапога горсть листьев. Горький запах, запах одиночества и былых устремлений, не приведших ни к чему, поплыл по тоннелю. Прыгнула в неразличимую лужу невидимая лягушка, и что-то вроде флейты пропело наверху, в давным-давно выгоревшем предместье.
Они вернулись к лошади по имени Пятерка, выпрягли ее и долго искали, к чему привязать. В итоге привязали к особо мощному корню у стены, потревожив рой белых, как привидения, светлячков.
Подхватили увесистую двуколку и, кряхтя, вдвоем развернули ее. Дознаватель не выделялся ни ростом, ни сложением, зато наказатель мог похвастать по крайней мере первым, он был едва ли не в полтора раза выше своего товарища – настолько же, насколько и старше.
Беспокойно косящую Пятерку впрягли снова.
– Хоть бы не уехала… – пробормотал дознаватель, возясь с тормозом двуколки и поглядывая назад, на чуть заметные непостоянные пятна окрашенного света. Туман наверху опускался, и тем ярче озарялся не видимый отсюда выход на поверхность. Стали видны белеющие кости у основания лестницы. По ним что-то перемещалось. – А то и тормоз потащит…
Двуколка утвердилась на рельсах, лошадь получила нагретое яблоко из кармана плаща и хрустела им в темноте. Наказатель пригасил фонарь почти до минимума. Тени сгустились под ногами, словно сапоги приехавших попирали само ничто. И тотчас ярче засиял тот, верхний свет: мерцание осклизающих корней, белый танец светляков. Даже запахи темноты и влаги, казалось, сразу стали сильнее. И звуки слышнее. А тишина между ними – глубже.
Наказатель протер запотевшие линзы в стынущей стальной оправе, но это не помогло.
Халле прихватил из двуколки маленькую клетку со спящим голубем. Другой связи с городом тут не было, и птицу надлежало тащить с собой. Дознаватель, хоть и немного телепат, как все они, на таком расстоянии был бессилен – от жилых окраин Андренезера их теперь отделяло не меньше пяти миль.
У лестницы они спугнули крысу, объедающую тлен с крупных костей; та канула в темноту, оставив слизней трудиться в одиночестве.
Помедлили.
– Готов, дознаватель Халле?
Тот чуть нервно усмехнулся, глянул на долговязого напарника снизу:
– Готов, наказатель Коркранц. Хотя я бы предпочел пару таблеток. Совы́, например, если б такие существовали. Или любой из проклятых знаменитостей, если она в темноте видит лучше, чем я.
– Никаких таблеток в мою смену, дознаватель. Ты же знаешь.
– И сам не жалую. Обойдемся. По крайней мере, пока не появятся подходящие. – Халле знал нелюбовь Коркранца к экстрактам чужих умений, но не разделял ее. – В конце концов, почему бы не наделать таблеток пса? Принял одну – и порядок, отлично слышишь и обоняешь все вокруг. Самое то для сыскных. Почему выпускают только человеческие? На кой мне полчаса умения петь, как Адам Турла, если я готов заплатить за час ночного зрения или острого слуха?
– Таблеток не использовал, не буду, другим не советую, а на месте Шеффилда и запретил бы. Но где сейчас Шеффилд… – Коркранц глянул вверх по лестнице. – Ладно, пошли.
Халле, кивнув, расстегнул нижнюю пуговицу пиджака, чтобы удобнее было добираться до ножа. У Коркранца давно были расстегнуты и пуговица, и кобура – наказатель имел право на револьвер.
Они поднялись быстро, цокая рифлеными набивками сапог по расшатанным осклизлым ступеням.
После темноты подземелья наверху показалось совсем светло. Осень только перевалила за середину, а вот ночь до своей еще не добралась. Туман лежал тонким слоем, затекая в провал спуска. Вдруг вслед им долетело тихое потерянное ржание Пятерки, нереальное, как привет из другого мира.
Деревья вокруг были невысоки, ни одно из них не выросло ровным, словно в молодости они не могли решить, куда им все-таки расти: вверх, как все, или лучше в сторону, а может, вообще вниз. Разломы в стволах, щели коры, впадины узловатых переплетенных веток светились голубым и розовым, ярким, как ярмарочные огни. Свет помигивал вразнобой. На одной из ветвей, прицепившись ногами, вниз головой спала птица.
– Карамель какая-то, – сказал Халле. – Никогда я не любил эти привозные деревья.
– Ну, это не совсем те, что я помню, – ответил Коркранц. – Они, конечно, и до пожара выглядели экзотично, но то, что сейчас тут растет, вряд ли уже можно классифицировать. Значит, правду говорят: год от года они все ярче.
Лязгающий голос наказателя, такой знакомый собеседнику и такой внушительный под белыми сводами кабинетов и среди высоких стен кварталов-колодцев, тут тонул, будто звук кузнечных клещей, которые зачем-то обмотали ветошью.
– Пойдем, – сказал Наказатель, делая шаг вперед. Халле кивнул и последовал за ним, стараясь не оглядываться.
Здесь когда-то был парк. Обезглавленные чугунные остовы фонарей напоминали об этом; в одном месте сапог Коркранца ступил на гулкое железо – люк коммуникаций, и наказатель пообещал себе получше смотреть под ноги.