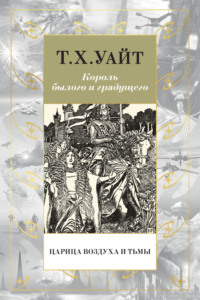Полная версия
Король былого и грядущего
Знаешь ли ты, – прибавил Архимед, – что чета голубей всегда устраивается на ночлег головою к хвосту друг друга, так, чтобы можно было посматривать в обе стороны?
– Я знаю, что так делают наши домашние голуби, – сказал Варт. – И думаю, что люди вечно норовят их убить оттого, что они такие прожорливые. Что мне нравится в вяхирях, так это то, как они хлопают крыльями и как они во время брачных полетов взмывают вверх, складывают крылья и падают, так что полет их походит на полет дятла.
– Вообще-то, на дятлов они не похожи, – сказал Мерлин.
– Вообще-то, нет, – признал Варт.
– А у тебя какая птица любимая? – спросил Архимед, чувствуя, что надо дать высказаться и хозяину.
Мерлин сложил пальцы вместе, как Шерлок Холмс, и без промедления ответил:
– Я предпочитаю зяблика. Мой друг Линней называет его coelebs, или птицей-холостяком. Стаям зябликов хватает ума разделяться на зиму, так что самцы и самки летают отдельно. А потому хотя бы в зимние месяцы они живут в совершенном мире.
– Наша беседа, – напомнил Архимед, – началась с вопроса о том, умеют ли птицы говорить.
– Другой мой друг, – немедленно откликнулся Мерлин наиученейшим своим тоном, – утверждает или будет утверждать, что все разговоры о птичьем языке начинаются с вопроса о подражании. Аристотель, как ты знаешь, также выводит трагедию из подражания.
Архимед испустил тяжкий вздох и обронил с пророческой интонацией:
– Ну давай уж, выкладывай все до конца.
– Дело обстоит так, – сказал Мерлин. – Кобчик падает на мышь, и несчастная мышь, пронзенная его когтями, испускает в агонии писк: «Киии!» В следующий раз, когда кобчик завидит мышь, он уже сам из подражания начинает выкрикивать: «Киии». Другой кобчик, возможно супруг или супруга первого, присоединяется к этому крику, и через несколько миллионов лет уже все кобчики выкликают друг друга только им присущей нотой: «Кии-кии-кии».
– Но нельзя же строить все выводы на одной только птице, – сказал Варт.
– А я и не собираюсь. Крик соколов походит на крик их добычи. Кряквы квакают совсем как лягушки, которых они едят, тоже и сорокопуты подражают горестным крикам тех, кого они употребляют в пищу. Дрозды, в том числе и черные, щелкают, как улиточьи домики, которые они разбивают. Разного рода вьюрки воспроизводят звук, сопровождающий разгрызанье семян, а дятлы подражают стуку по дереву, который они издают, когда добывают себе на прокорм насекомых.
– Но ведь у всех птиц в песнях не больше одной только ноты!
– Конечно, конечно. Из подражания возникла только призывная нота, а затем в результате ее повторения и варьирования появились различные птичьи напевы.
– Я тебя понял, – холодно сказал Архимед. – А обо мне что ты скажешь?
– Ну, ты же отлично знаешь, – сказал Мерлин, – что мышь-землеройка, на которую ты налетаешь, восклицает: «Куиик!» По этой самой причине молодняк твоего вида призывает друг друга криком «Куиик».
– А старики? – саркастически осведомился Архимед.
– Хуруу, Хуруу, – не желая сдаваться, воскликнул Мерлин. – Друг мой, это элементарно. После первой своей зимы они подражают завыванию ветра в том древесном дупле, которое выбрали для ночлега.
– Понятно, – холоднее, чем когда бы то ни было, произнес Архимед. – Отметим, что на сей раз ни о какой добыче речь не идет.
– Ой, да брось, пожалуйста, – парировал Мерлин. – Существуют же и другие вещи, помимо еды. Например, даже птица время от времени пьет воду или купается в ней. Именно звук речного течения и слышим мы в песне скворца.
– Теперь, как видно, – сказал Архимед, – дело уже не только в том, что мы едим, но и в том, что пьем или слышим.
– А почему бы и нет?
– Ну хорошо, пускай, – сказал, уступая, Архимед.
– А по-моему, это интересная мысль, – сказал Варт, чтобы подбодрить наставника. – Но как же из этих подражаний получился язык?
– Поначалу были простые повторы, – сказал Мерлин, – потом пошли вариации. Ты, как видно, не осознаешь, как много значит интонация и скорость произнесения. Положим, я бы сказал: «Какой хороший денек», вот так – просто. Ты бы ответил мне: «Да, хороший». Но если бы я с нежной интонацией произнес: «Какой хороший денек», ты, возможно, подумал бы обо мне: «Вот приятный человек». С другой стороны, если бы я почти неслышно шепнул: «Какой хороший денек», ты, быть может, начал бы озираться, пытаясь понять, что меня так напугало. Вот примерно таким образом птицы и разработали свой язык.
– А не мог бы ты нам сообщить, – сказал Архимед, – раз уж ты столько всего знаешь об этом, как много различных сведений способны мы, птицы, передавать, меняя темп и ударения в коленцах наших так называемых призывных кликов?
– Разумеется, очень много. Если ты влюблен, ты будешь кричать «Кии-уик» с мягкими ударениями, а посылая вызов или выражая ненависть, выкрикнешь то же «Кии-уик» сердито; ты испускаешь призывный клич с повышением тона, если не знаешь, где твой партнер, или же хочешь отвлечь его внимание от гнезда, когда близ него появляется кто-то чужой; приближаясь зимней порой к старому гнезду, ты можешь прокричать те же ноты любовно – это условный рефлекс, закрепленный радостями, которые ты когда-то испытал в этом гнезде, а если я подойду к гнезду и тебя напугаю, ты можешь выкрикнуть: «Кииуик-кииуик-кииуик» – и получится громкий сигнал тревоги.
– Когда разговор доходит до условных рефлексов, – кисло заметил Архимед, – я предпочитаю отправляться на поиски мыши.
– Пожалуйста, отправляйся. И когда ты ее найдешь, ты, смею утверждать, испустишь еще один клич, характерный для неясытей, хоть и не часто упоминаемый в книгах по орнитологии. Я говорю о звуке «ток» или «тцк», о котором человеческие существа говорят: «причмокнуть губами».
– И чему же, как ты полагаешь, подражает сей звук?
– Очевидно, хрусту мышиных костей.
– Ловко у тебя это выходит, хозяин, – сказал Архимед, – и до тех пор, пока дело касается одной только бедной неясыти, ты останешься победителем. Исходя из моего личного опыта, я могу сказать тебе только одно: все твои речи ничего не стоят. Синичка способна поведать тебе не только о том, что ей угрожает опасность, но и какая именно. Она умеет сказать «Берегись кошки», или «Берегись ястреба», или «Берегись неясыти» так ясно, как если бы ты это в азбуке прочел.
– Я этого и не отрицаю, – сказал Мерлин. – Я говорил тебе лишь о началах языка. А вот попробуй-ка ты назвать мне хотя бы одну птичку, применительно к пению которой я бы не смог указать исходного образца для подражания.
– Козодой, – сказал Варт.
– Жужжанье пчелиных крыл, – тут же ответил его наставник.
– Соловей, – безнадежно сказал Архимед.
– Ах, – произнес Мерлин, откидываясь в уютном кресле. – Тут нам предстоит воссоздать душевную песнь нашей возлюбленной Прозерпины, пробуждающейся во всей ее текучей красе.
– Тирию, – мягко вымолвил Варт.
– Пию, – тихо добавил Архимед.
– Музыка! – в восторге заключил некромант, не способный воспроизвести и самых элементарных подражательных нот.
– Привет, – сказал Кэй, открывая дверь в вечереющую классную комнату. – Извините, что опоздал на урок географии. Пытался добыть нескольких птичек с помощью арбалета. Видите вот, дрозда подстрелил.
18
Варт лежал, как ему и было велено, бодрствуя. Следовало дождаться, пока уснет Кэй, и тогда за ним придет Архимед с Мерлиновым волшебством. Он лежал под огромной медвежьей шкурой и смотрел в окно на весенние звезды, уже не морозные и металлические, но как бы отмытые заново, набухающие влагой. Вечер был замечательный – ни дождя, ни облачка. Небо между звездами казалось сделанным из самого темного и роскошного бархата. В проеме глубокого, глядящего на запад окна над самым горизонтом гнались за Сириусом ловчие псы-звёзды, Альдебаран и Бетельгейзе, озираясь на своего господина – на Орион, еще не взошедший над краем земли. Сквозь окно проникал в комнату ясно различимый аромат укрытых ночью цветов, ибо уже зацветала смородина, дикая вишня, слива, боярышник, и слышно было, как в окружающих, смутно различимых деревьях не менее пяти соловьев состязаются в конкурсе певческой красоты. Варт лежал на спине, под наполовину сползшей медвежьей шкурой, скрестив за головою руки. Ночь была слишком прекрасна, чтобы спать, слишком тепла, чтобы подтягивать шкуру. Как зачарованный, следил он за звездами. Скоро снова настанет лето, он сможет уходить ночевать на замковые стены и видеть, как звезды парят над его лицом – близко, будто мотыльки, – они и похожи, по крайности Млечный Путь, на пыльцу с мотыльковых крыльев. И в то же самое время они будут так далеки, что в переполненной вздохами душе начнут беспомощно роиться неизъяснимые мысли о Вселенной и вечности, и он представит себе, как улетает меж ними, все выше и выше, никогда их не достигая, никогда не завершая полета, все покидая, всего лишаясь в спокойной стремительности пространства.
Когда Архимед пришел за ним, он уже крепко спал.
– Съешь-ка вот это, – сказал Архимед и вручил ему дохлую мышь.
Варт чувствовал себя до того необычно, что без протестов принял пушистую кроху и сунул ее в рот, даже не подумав, что она может оказаться препротивной. А потому и не удивился, почувствовав, что вкус у нее отменный, – что-то вроде неочищенного персика, хотя, конечно, сама мышь была вкусней своей шкурки.
– А теперь пора и в полет, – сказал Архимед. – Запрыгни на подоконник и посиди немного, чтоб попривыкнуть, прежде чем мы снимемся.
Варт вспрыгнул на подоконник и машинально лишний раз взмахнул крыльями – точно так же, как взмахивает руками прыгун в высоту. Он плюхнулся на подоконник с глухим ударом, какой слышишь, когда садится с лету сова, но вовремя остановиться не смог и вывалился из окна.
«Ну вот, – развеселившись, подумал он, – тут-то я и сверну себе шею».
Странное дело, но он почему-то не воспринимал жизнь всерьез. Стены замка пронеслись мимо, замковый ров и земля наплывали на Варта. Он ударил крыльями, и земля ушла вниз, будто вода в худом колодце. Через секунду сила удара истратилась, и земля вновь начала приближаться. Он ударил еще раз. Как странно было нестись над то взбухавшей, то опадавшей под ним землей в полном беззвучии бахромчатого оперения.
– Ради всего святого, – послышался задыхающийся голос Архимеда, мотавшегося вверх и вниз в темноте сзади него, – перестань ты летать, словно дятел. Глядя на тебя, всякий решил бы, что ты – домовый сыч, если бы эту тварь уже завезли в страну. Ты знаешь, что ты делаешь? Ты бьешь крыльями, набираешь скорость, забираешься, пока она не иссякнет, вверх, зависаешь, а как только начинаешь терять высоту, бьешь крыльями снова – и все сначала. С тобой невозможно держаться вровень.
– Ну да, – беспечно сказал Варт, – а если я не стану этого делать, я просто свалюсь на землю.
– Идиот, – сказал Архимед. – Ты должен все время помахивать крыльями, а не подпрыгивать на них таким манером.
Варт сделал, как ему было сказано, и с удивлением обнаружил, что земля выровнялась и движется под ним, не покачиваясь, ровным потоком.
– Вот так-то лучше.
– Как странно все выглядит, – отметил мальчик с некоторым изумлением, ибо теперь у него появилась возможность как следует оглядеться.
И вправду, мир выглядел странно. Пожалуй, лучше всего мы опишем его, если скажем, что он походил на фотографический негатив, ибо Варт теперь видел кое-что за пределами спектра, доступного человеческим существам. Инфракрасная камера способна фотографировать в темноте, в которой мы ничего не увидим, но она же фотографирует и при дневном освещении. То же и с совами, ибо утверждение, что видят они лишь ночью, было бы несправедливым. Они хорошо видят днем, да только они еще обладают тем преимуществом, что и ночью видят не хуже. А потому они, естественным образом, предпочитают охотиться ночью, когда прочим тварям остается рассчитывать лишь на их милосердие. В дневное время зеленые деревья показались бы Варту белесыми, как бы покрытыми яблоневым цветом, и сейчас, ночью, все тоже выглядело по-иному. Это было все равно как лететь в сумерках, когда все краски сведены к оттенкам одного и того же цвета, и, как и в сумерках, вид был довольно мрачный.
– Тебе нравится? – спросил Архимед.
– Очень нравится. Знаешь, когда я был рыбой, вода в одних местах была потеплее, в других – похолоднее, вот и с воздухом то же самое.
– Температура, – сказал Архимед, – зависит от растительности внизу. Деревья и травы, все они согревают над собою воздух.
– Да, – сказал Варт, – понимаю теперь, почему рептилии, выйдя из рыб, решили податься в птицы. Дело, безусловно, приятное.
– А ты начинаешь соображать что к чему, – отметил Архимед. – Не будешь возражать, если мы присядем?
– А как это сделать?
– Надо зависнуть. То есть ты должен подниматься, пока не лишишься скорости, – и тогда, как только почувствуешь, что начинаешь падать, – ты, ну, просто садишься. Ты когда-нибудь приглядывался, как птицы подлетают к ветке? Они не опускаются на нее сверху, но подныривают под нее, а затем поднимаются. А в верхней точке подъема зависают и садятся.
– Но птицы ведь и на землю садятся. И как кряквы опускаются на воду? Они же не могут подняться, чтобы сесть на нее.
– Ну, опуститься на землю или на что-нибудь плоское – дело вполне возможное, только более трудное. Приходится полого скользить с постоянно убывающей скоростью, а под конец увеличивать сопротивление воздуха, расправляя зонтиком крылья, опуская ноги, хвост и так далее. Ты, может быть, замечал, что не многим птицам удается проделать это, сохранив грациозность. Присмотрись, как плюхается ворона и сколько брызг поднимает кряква. Лучше всех это делают птицы, у которых крылья изогнуты, – цапли, скажем, или зуйки. И если правду сказать, мы, совы, тоже неплохо с этим справляемся.
– А длиннокрылые птицы, вроде стрижей, они, я полагаю, делают это хуже всего, потому что вообще не способны взлететь с плоской поверхности?
– Тут причины иные, – сказал Архимед, – но факты изложены верно. Однако так ли уж нужно нам беседовать на лету? Я начинаю уставать.
– Я тоже.
– Совы, как правило, предпочитают присаживаться через каждую сотню ярдов.
Варт, скопировав Архимеда, взлетел к выбранной ими ветке. Как только они оказались над ней, он начал падать, в последний миг уцепил ее своими мохнатыми лапками, пару раз качнулся взад-вперед, понял, что посадка прошла успешно, и сложил крылья.
Пока Варт тихо сидел, любуясь видом, его друг продолжал свою лекцию о птичьем полете. Стриж, конечно, хороший летун, рассказывал он, такой хороший, что способен проспать на лету целую ночь, недурны и грачи, – Варт ведь сам говорил, что любуется тем, как они наслаждаются полетом, – и все же, если взять небольшие высоты – что автоматически сбрасывает стрижа со счетов, – истинным аэронавтом следует счесть зуйка. Он рассказывал о любви зуйков к воздушной акробатике, об их способности выполнять такие трюки, как вращение на лету, разворот с остановкой и даже кувырок через голову, – и все это из одной лишь любви к искусству. Зуйки – единственные птицы, практикующие посадку скольжением с большой высоты, не считая старейшего, самого веселого и красивого из всех воздухоплавателей, – во́рона, который тоже проделывает это время от времени. Варт уделял этой лекции мало внимания, если вообще уделял, занятый приноравливанием глаз к странным тонам освещения. Краешком глаза он поглядывал на Архимеда, ибо Архимед, рассказывая, бессознательно высматривал, чем бы ему отобедать. Вид он при этом имел удивительный.
Верхушка теряющего скорость волчка перед тем, как ему упасть, описывает медленные круги. Основание его остается на месте, но макушка кружится, и чем ближе конец, тем большие круги она совершает. Именно это и проделывал, не сознавая того, Архимед. Лапы его стояли недвижно, а верхняя часть тела вращалась, как у человека, оказавшегося в кинотеатре за спиною у толстой дамы и не вполне уверенного, с какого ее боку лучше будет виден экран. Поскольку Архимед к тому же обладал способностью выкручивать голову на плечах едва ль не на полный круг, легко себе представить, что зрелище получилось стоящее внимания.
– Что это ты делаешь? – спросил Варт.
Он еще не договорил, когда Архимед вдруг исчез. Вот только что сидела себе неясыть, рассказывала про зуйка, и вдруг – глядь, никакой неясыти нет. Лишь далеко внизу под Вартом послышался глухой шлепок, шелест листвы, как будто воздушная торпеда врезалась в заросли и летит, не считаясь с помехами.
Через минуту Архимед уже опять сидел рядом с ним на ветке, задумчиво раздирая мертвого воробья.
– А можно я так тоже попробую? – спросил Варт, ощутив вдруг склонность к кровопролитию.
– Вообще говоря, – ответил Архимед, проглотив то, что у него было во рту, – нельзя. Хватит с тебя и волшебной мыши, превратившей тебя в сову, – в конце-то концов, ты целый день кормился, как положено человеку, – к тому же ни одна сова не убивает удовольствия ради. И кроме прочего, предполагалось, что я возьму тебя с собой в образовательных целях, и, как только я перекушу, мы образованием и займемся.
– И куда ж ты меня отправишь?
Архимед прикончил воробья, воспитанно вытер клюв о сучок и уставил на Варта широко распахнутые глаза. На этих больших, круглых глазах лежал, как выразился один знаменитый писатель, налет света, подобный лиловатому налету пыли на винограде.
– Теперь, поскольку ты умеешь летать, – сказал он, – Мерлин желает, чтобы ты побыл Диким Гусем.
Место, в котором он очутился, было совершенно плоским. В человечьем мире настоящая плоскость встречается редко, потому что дома, деревья, ограды иззубривают ландшафт. Трава и та тянется кверху бесчисленными стебельками. Но здесь, в утробе ночи, среди беспредельной, плоской, влажной грязи, напоминавшей черный творог, зацепиться глазу было решительно не за что. Даже если бы на ее месте простирался мокрый песок, и то бы он нес на себе отпечатки волн, схожие с нашими небными складками.
Лишь одна первородная стихия обитала на этой огромной равнине – ветер. Ибо здешний ветер был безусловно стихией. В нем ощущались пространность, могущество тьмы. В человеческом мире ветер приходит откуда-то и куда-то уходит и, уходя, через что-то проходит – через деревья, улицы или ограды. Этот ветер приходил ниоткуда. И проходил через плоское ничто в никуда. Пологий, почти беззвучный, если не считать странного гула, осязаемый, бесконечный, ошеломляющий протяженностью, он тяжко тек над грязью. Его контуры можно было очертить по линейке. Титанические серые линии его шли, не колеблясь и не прерываясь. Можно было бы повесить на него зонтик за гнутую ручку, и тот так бы и остался висеть.
На этом ветру Варт ощущал себя как бы еще не сотворенным. Если не брать в расчет влажной твердыни под его перепончатыми лапами, он обитал в пустоте, в плотной, подобной хаосу, пустоте. Его ощущения были ощущениями геометрической точки, загадочным образом существующей на кратчайшем пути между двумя другими, или же линии, прочерченной по плоской поверхности, у коей имеются ширина и длина, но никакого объема. Никакого объема! Да ветер и являл собою объем в чистом виде! В нем были мощь, текучесть, сила, устремленность и ровность мирового потока, неуклонно изливающегося в преддверия ада.
Впрочем, и этому чистилищу поставлены были пределы. Далеко на востоке, может быть в целой миле, стояла сплошная звуковая стена. Она нарастала, спадала, словно сжимаясь и разжимаясь, но оставалась сплошною. В ней слышалась угроза, она жаждала жертв, – ибо там простиралось огромное безжалостное море.
В двух милях к западу виднелись треугольником три пятнышка света. То светились слабенькие лампадки в хижинах рыбаков, вставших пораньше, чтобы поймать прилив в запутанных протоках соленых болот, где вода порою текла прочь от океана. Тем и исчерпывались черты его мира – звук моря и три огонька; темень, пологость, пространность, влажность; и ровный поток ветра, вливающийся в бездонную ночь.
Когда забрезжил робкий день, мальчик обнаружил, что находится среди множества подобных ему созданий. Одни сидели в грязи, теперь взбаламученной злыми мелкими водами возвращающегося моря, другие уже уплывали по этой воде, пробужденные ею, от надоедливого прибоя. Сидевшие имели сходство с большими чайниками, засунувшими носики себе под крылья. Плывущие время от времени окунали головы в воду и затем трясли ими. Те, что проснулись еще до наступленья воды, стояли, с силой взмахивая крыльями. Глубокое безмолвие сменилось гоготом и болтовней. Их было сотни четыре в серой окрестности – замечательно красивых существ, диких белогрудых гусей, которых человек, однажды видевший их вблизи, никогда уже не забудет.
Задолго до восхода солнца они уже изготовились к полету. Прошлогодние семейные выводки сбивались в стайки, а сами эти стайки проявляли склонность к объединению с другими стайками, возможно под водительством дедушки, или даже прадедушки, или какого-то признанного вожака небесного воинства. Когда примерное разбиение на отряды завершилось, в разговорах гусей обнаруживалась нотка легкого возбуждения. Они принимались резко вертеть головами то в одну, то в другую сторону. А затем, развернувшись по ветру, все вместе вдруг поднимались на воздух, по четырнадцать или по сорок гусей разом, и широкие крылья их загребали темноту, и в каждом горле трепетал восторженный вопль. Сделав круг, они быстро набирали высоту и скрывались из виду. Уже на двадцати ярдах они терялись во мраке. Те, что снялись пораньше, не издавали особого шума. До прихода солнца они предпочитали помалкивать, отпуская лишь случайные замечания или, если возникала какая-либо опасность, выкликая одну предупредительную ноту. Тогда, заслышав предупреждение, все вертикально взмывали в небо.
Вартом овладевало беспокойство. Темные эскадрильи над его головой, поминутно снимавшиеся с земли, заронили в него вожделение. Его томила потребность последовать их примеру, но он не чувствовал уверенности в себе. Может быть, их семейные стаи, думал он, воспротивятся его вторжению. И все же ему не хотелось остаться в одиночестве. Ему хотелось соединиться с ними, насладиться обрядом утреннего полета, явно доставлявшего им удовольствие. В них ощущалось товарищество, вольная дисциплина и joie de vivre.
Когда ближайший к мальчику гусь расправил крылья и подскочил, он машинально проделал то же. Около восьми его соседей уже несколько времени дергали клювами, и он подражал им, словно их действия были заразительными, и теперь вместе с той же восьмеркой он полетел по гладкому воздуху. В миг, когда он покинул землю, ветер пропал. Неугомонность и свирепость его сгинули, как отсеченные ножом. Варт оказался у ветра внутри, и внутри был покой.
Восьмерка гусей построилась в линию, строго выдерживая равные промежутки. Варт оказался последним. Они летели к востоку, где занимался слабый свет, и вскоре перед ними стало всходить яркое солнце. Далеко за простором земли оранжево-алая трещина пронизала гряду облаков. Сияние разрасталось, внизу завиделись соленые топи. Они открылись перед ним лишенными примет болотами или вересковыми пустошами, по воле случая ставшими частью моря, – их вереск, еще сохранивший сходство с вереском, сопрягался с морской травой, пока не измок и не просолился, и ветви его осклизли. Место ручьев, что текли бы сквозь пустошь, заняла морская вода, пробившая русла в синеватой грязи. Там и сям стояли на кольях длинные сети, в которые мог бы влететь невнимательный гусь. Они-то и были, как он догадался, причиной тех предостерегающих криков. Две-три свиязи свисали с сетей, и далеко на востоке человек, похожий на муху, с жалким упорством тащился по слякоти, чтобы собрать добычу в мешок.
Солнце, вставая, окрасило пламенем ртуть протоков и мерцающий ил. Кроншнепы, начавшие скорбно стенать еще до рассвета, теперь перелетали с одной травянистой отмели на другую. Свиязи, ночевавшие на воде, принялись высвистывать свои сдвоенные ноты, похожие на свист рождественских шутих. Против ветра поднимались с земли кряквы. Травники, словно мыши, прыскали в стороны. Облачко крошечных чернозобиков, более плотное, чем стайка скворцов, разворачивалось в воздухе с шумом идущего поезда. С веселыми криками снималась с сосен, растущих на дюнах, черная воронья стража. Всяких видов береговые птицы облепили линию прибоя, наполнив ее оживлением и красотой.
Заря, заря над морем и совершенство упорядоченного полета были исполнены такой прелести, что мальчику захотелось запеть. Ему захотелось влиться в хор, славящий жизнь, и, поскольку вокруг него крылья несли тысячу гусей, долго ждать ему не пришлось. Смех и музыка мгновенно пронизали караваны этих созданий, подобно дыму струившихся по небу грудью к встающему солнцу. Каждый отряд их пел на свой манер: кто проказливо, кто торжественно, кто чувствительно, кто с ликованием. Предвестники дня заполнили рассветное небо, и вот что они запели:
О мир, под крылом кружащий, простри персты перламутра!Солнце седое, сияй белогрудым баловням утра!Багряные блики зари узри на груди гордой,Услышь, как в каждой гортани гудят органы и горны!Внемлите, темные тучи кочующего батальона,Рожкам и рычанью гончих, гаму небесного гона!В далекие дали, далёко, вольны и велики,Уходят Anser albifrons, их песни и клики[5].Стоял уже день, Варт прогуливался по неровному полю. Вокруг паслись товарищи по полету, выдергивая траву боковыми рывками мягких маленьких клювов, извивая шеи крутыми дужками, столь отличными от грациозных лебединых изгибов. И пока они так кормились, кто-то из их числа непременно стоял на страже, задрав по-змеиному голову. В недавние зимние месяцы, а то и в прежние зимы они разбились на пары, разбиение это сохранялось и там, где паслось семейство или целый летучий отряд. Молодая самочка, спавшая бок о бок с ним на грязевой равнине, была однолеткой. Она то и дело поглядывала на него умным глазом.