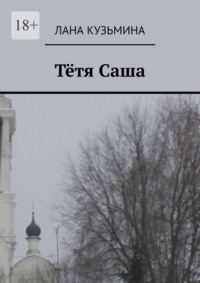Полная версия
Сквозь боль и мрак

Сквозь боль и мрак
Лана Кузьмина
Я боюсь, что жизненная драма может стать трагедией души.
Николай Рубцов
© Лана Кузьмина, 2024
ISBN 978-5-0062-2106-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть первая
Глава 1
Владимир Николаевич улыбался. Ему снилось детство, деревенский бревенчатый дом. За длинным деревянным столом он, совсем ещё маленький, сжимает в руках кружку с тёплым парным молоком. Мать, похожая на гимназистку в своём длинном коричневом платье и белом переднике с карманами, хлопочет у печи. Крутит самокрутку дед. Горит в переднем углу лампадка перед иконой Спасителя. Вокруг пристойная бедность в виде чисто подметённого пола и белых занавесок на окнах. Но как же хорошо! Как тихо и покойно!
Владимир Николаевич открыл глаза. Со всех сторон на него навалились бетонные стены стандартной советской квартиры. Скудный свет зарождающегося утра осветил комнату. Владимир Николаевич взглянул на светящиеся цифры электронных часов и испуганно вскочил: неужели, проспал? Впервые в жизни. И тут же устало опустился на кровать: на работу сегодня идти не нужно.
На заводе октябрь сразу не задался. Уже второго числа в цеху остановилась половина станков. Глухонемой Витька, бесшумно матерясь, беспомощно размахивал руками.
– Чего вы хотите? – усмехнулся тогда Шумаков. – Они ж ещё Никиту Сергеевича помнят.
– Какого Никиту Сергеевича? – переспросил восемнадцатилетний Петька, занесённый на завод неизвестно каким ветром.
– Хрущёва, – подсказал ему Варавин. Петька непонятливо заморгал, а Варавин шумно выдохнул:
– Молодёжь!
Прибежал замдиректора Лещенко и прочитал лекцию о том, что советские станки не то, что современные. Они пятьдесят с лишком лет работали и ещё лет сто работать будут. Просто некоторые, тут он покосился на Владимира Николаевича, в силу своего возраста работать на них не могут.
– Я вот на пенсию выйду, в жисть работать не стану, – зашептал Травкин. – Нечего чужое место занимать. У меня ещё совесть есть.
– А я вообще не понимаю, чего человеку дома не сидится, – поддержал его Шумаков. – Сиди дома, пей чай с пряниками! Красота!
Ну, вот началось! Вечная песня о том, что избавься от таких пенсионеров как он да от инвалидов вроде Витьки, и всё пойдёт как по маслу, восстанет промышленность, вырастут зарплаты, потянется на производство молодёжь.
Станки каким-то чудом починили, принялись было за работу, но тут оказалось, что закончилось сырьё. Как всегда неожиданно. И в довершении всего отключили электричество. Лещенко выругался, прибавив что-то вроде: «Невозможно работать!» и отправил всех в отпуск за свой счёт на неопределённый срок.
Травкин заворчал, выудил из кармана спецовки потрёпанный трудовой кодекс и начал судорожно перелистывать страницы.
– Простой по вине работодателя! – закричал он обрадованно. – Две трети должны платить! Две трети, а не за свой счёт!
И сунул книжку прямо в лицо Владимира Николаевича. Тот отшатнулся:
– Мне-то зачем? Сходи в отдел кадров, выясни!
Травкин смутился.
– Пойдёшь к ним, как же! Знаешь, что скажут? Не нравится, увольняйся, у нас очередь на улице стоит, устроиться хочет. Кому-то хорошо, у кого-то пенсия. А мне что? Зубы на полку?
– У меня дочка, – начал оправдываться Владимир Николаевич. – Деньги нужны…
Травкин усмехнулся:
– Детей по молодости заводить надо, а не на старости лет. Их разве успеешь вырастить? Эгоизм всё это.
И отправился в раздевалку, уткнувшись в свою бесполезную книжку. У самой двери обернулся, словно вспомнив что-то и зло бросил:
– У кого-то ещё и дочь работает. Инвалидка, а всё туда же! Удавятся за лишнюю копейку, а ещё учат… а нормальным людям работать негде!
Владимир Николаевич вздохнул, вспоминая недовольное лицо сослуживца. Эгоизм? Возможно. Только разве угадаешь, как жизнь повернётся? Старик представил себе покойную жену.
«Тридцать два года, – думал он, – тридцать два года». Как быстро промчались они. Ушли в прошлое беспокойные ночи, Анины слезы из-за очередной неудачной беременности, переживания. Их жизнь, казалось, вошла в тихую спокойную колею, ведущую к умиротворению. Но все же иногда счастливые соседи, обвешанные радостными внуками, расшатывали их жизнь. И снова слезы, беспокойные ночи. Словно утешение после долгих лет одинокой жизни судьба подарила им девочку, Яну. А Аня, его Аня, так и не смогла порадоваться дочери. Она умерла, когда девочка была совсем маленькой.
Нужно было ответить этому Травкину. Не накричать. Крик выглядел бы глупо. Мол, истерит старик, совсем крыша съехала. Лучше ввернуть остроумную фразочку, спокойно, походя, почти равнодушно. Травкин бы стоял, беспомощно хлопая своими белёсыми ресницами, не зная, что ответить. Остальные засмеялись бы, похлопали одобрительно по спине, и стало бы окончательно понятно, что Владимиру Николаевичу Залесскому палец в рот не клади – он и укусить может.
Только в нужный момент в голове как назло ни одной удачной мысли. «Соломенная башка» называл отец маленького Володьку. Телом Володька был крепок, а вот соображал с трудом. Долго читал по слогам, не сумел выучить таблицу умножения, а физика и химия остались для него тёмным неизведанным пятном. Мальчика считали туповатым и наградили званием деревенского дурачка, которого стоило лишь жалеть, не более. На самом деле Володька обладал острым умом, способным осилить школьную программу. Только времени для этого требовалось больше, чем остальным.
Но не глупость сына беспокоила родителей, а излишняя мягкость и доброта. Он испуганно закрывал руками лицо в то время, как братья и сёстры с интересом следили, как отец отрубает курицам головы. А когда пришлось зарезать телёнка, Володька забился в угол сарая, рыдая от жалости.
«Да, сынок, тяжело тебе придётся в жизни с твоим добрым сердцем», – вздыхала мать.
Владимир Николаевич ещё раз взглянул на часы и откинул одеяло. Он мог бы поспать ещё, хоть до самого обеда, но нужно было проводить на работу дочь.
В кухне как всегда бубнило радио.
– Вы что так и не отключили радиоточку? – удивлялась соседка Алевтина. – За неё же деньги берут!
– Пускай работает, – отвечал Владимир Николаевич. – Привыкли уже.
Алевтина была старшей по дому. Должность свою женщина очень любила, гордилась ей и при каждом удобном случае напоминала, что именно она, а никто другой решает все проблемы жильцов. Жильцы пассивно подчинялись. Большинство не заботил ни цвет стен в подъезде, ни вид цветов на клумбе, а проблемы посерьёзней вроде пьяных посиделок и ремонта в неурочное время Алевтина пресекала на корню без лишних просьб.
– Превентивные меры! – важно произносила она, стараясь быть в курсе всего, что происходит в доме.
Она искренне считала, что Залесские не справляются с собственной жизнью. Просто не могут. Слыхано ли дело: пожилой отец да незрячая дочь. Алевтина наведывалась к ним несколько раз в неделю за солью, сахаром и прочим, попутно обшаривая острым взглядом углы, но так ни разу и не нашла ничего предосудительного.
Отец с дочерью в опеке не нуждались. Оба работали, не надеясь на пенсии и пособия, содержали в порядке квартиру, не страдали вредными привычками. Владимир Николаевич даже не курил, во что неугомонная Алевтина никак не могла поверить.
– А жаних куды делся? – разговаривала Алевтина нарочито безграмотно, считая, что только так её может понять родившийся в деревне Залесский. При этом она ещё и кричала, полагая, что старик глух как пень, что действительности не соответствовало. Слух у Владимира Николаевича с течением жизни не ухудшился.
– Лёша в Китае, – ответила Яна. – Уехал в командировку. Он филолог, а китайцы сейчас очень интересуются русской культурой.
– Да, да, – кивала Алевтина, думая про себя, что слова эти очередное враньё. В Китай! Подумать только! Да кому он там нужен! Сбежал. Вот и весь сказ! Женщина не верила, что кто-то находясь в здравом рассудке захочет жить с инвалидом.
Сегодня утром отец с дочерью пили на кухне чай, и Яна в очередной раз говорила, что её не нужно провожать, что она прекрасно доберётся сама. Сядет на автобус, а там – и рукой подать!
– А может, ну её, эту работу? – не выдержал Владимир Николаевич. – Всех денег не заработаешь!
– Пап, ну ты же знаешь, что это не из-за денег.
Он вздохнул. Лучшим было бы закрыть её дома и никуда не отпускать, но это невозможно. Однажды его не станет, и ей придётся учиться жить самостоятельно. Пусть учится сейчас, пока он жив. Потому он и подавил порыв выйти следом и, следуя на безопасном расстоянии, проводить дочь хотя бы до остановки, как он делал несколько лет назад.
Владимир Николаевич стоял у окна, не отрывая взгляда от тонкого силуэта, такого беззащитного в предрассветных сумерках, а из радиоприёмника струился старинный вальс.
Глава 2
Мелкий противный дождь накрывал город своей мутной пеленой. Виктор Семёнович Короткин, недовольно ворча, выбрался из автобуса. Спрятался под крышу старой перекошенной остановки и, глубоко вздохнув, бросил взгляд на противоположную сторону дороги. Снова она. В толпе шумных, вечно спешащих студентов стояла девушка. Яркое пятно света в серой суете будней. Каждый день в одно и то же время она появлялась на остановке и стояла несколько минут, ожидая пока схлынет беспокойный людской поток.
Девушка странным образом беспокоила Виктора. Он и сам не мог объяснить, почему каждый день ищет взглядом худенькую фигурку в светло-бежевом плаще. Зачем ему, пятидесятилетнему старику (а он давно считал себя стариком, чтобы там не утверждали окружающие) молоденькая девушка? Романтические чувства? Смешно. В институте, где он преподавал, полно девушек красивее этой. Может быть, дело в том, что в ней было что-то необычное, что-то выделяющее её из толпы. Виктор не мог понять, что именно. И это не давало покоя.
Город был серый, безликий. «Забытое Богом место» – самое правильное для него определение. Основанный сразу после Великой Отечественной войны, он не заботился о духовной жизни своих жителей. Здесь до сих пор не найти ни церкви, ни мечети или синагоги. Даже вездесущие приверженцы различных сект, расплодившихся в девяностые, обошли стороной этот небольшой городок. Как шутят многие, дело ещё и в том, что сюда очень тяжело добраться. Изловчившись, можно, конечно, успеть на редкую электричку или поймать спешащий вопреки расписанию автобус. А вот выбраться намного сложнее.
В советское время жизнь вертелась вокруг завода и крупнейшего в области педагогического института. Сегодня завод развалился на мелкие предприятия, слава института померкла, и город постепенно погружался в сонное вязкое болото повседневности.
Тридцать лет назад Виктор верил, что преподавание в институте всего лишь этап в его долгой и успешной научной карьере. Впереди ждала аспирантура, диссертация, научные статьи, переезд в Москву и, чем чёрт не шутит, работа за границей. Прошли годы, а он всё ещё здесь. На той же остановке, в тех же красных ботинках. Ботинки хорошие, кожаные, привезённые из Югославии в далёкие покрытые пылью года. Их подошва прошивалась два раза, бесчисленное количество раз менялись шнурки, а они до сих пор живы. Только потёрлись на боках да потеряли часть своего заграничного лоска.
Виктор любил шокировать окружающих. Кроме ботинок ему в этом помогали шерстяные брюки в крупную красно-коричневую клетку и яркий жёлтый шарф, связанный сестрой Катериной. Тяга Катерины к рукоделию не знала границ. И не важно, что петли на вязаных изделиях растянуты, а вылепленные из пластилина слоники не похожи ни на одно животное в мире. Душа жаждала творчества, выплёскивая его результаты на брата, покорно принимавшего несуразные подарки на Новый год, день рождения и все остальные праздники, какие только существуют в нашей стране.
Девушка обернулась, и взгляд Виктора скользнул по тёмным очкам, блестящим от дождевых капель.
«Тусовщица! – усмехнулся он. – Гуляла всю ночь, теперь глаза показать стыдно!»
Виктор терпеть не мог эту современную молодёжь. Что им нужно? Пить, курить, по клубам шляться. Может, она и не такая? Тогда зачем очки?
«Синяки прячет, – решил он. – Таких вот милых на вид „ангелочков“ мужья-садисты лупят почём зря, а те терпят. Противно».
Виктор раскрыл зонт. Спасибо Юлечке. Это она увидела на нём изображение серого котёнка и купила не глядя. И только дома заметила на другой стороне зонта полуобнажённого мужчину в джинсах и ковбойской шляпе. Но что жене плохо, то ему в самый раз.
Дождь усилился, и Виктор поспешил в институт.
Находящаяся на втором этаже кафедра немецкого языка представляла из себя узкий, оклеенный ржаво-оранжевыми обоями кабинет, оправдывая тем самым своё исконное название Lehrstuhl1. Каждый преподаватель на отведённых ему квадратных метрах только стул и мог уместить.
Кафедра дохнула на Виктора убийственным запахом еды и ацетона. Он зажмурился и, мысленно приготовившись к худшему, перешагнул порог. Забившаяся в угол почти у самой двери, полировала свои ногти Иришка Вересаева. Коробка на её коленях содержала в себе многочисленные пузырьки, источающие резкий неприятный запах.
– Пили-пили! – сказал ей Виктор. – Смотри только до локтей не допили!
Иришка непонимающе открыла рот, но пилку из рук не выпустила. Ей едва исполнилось двадцать четыре года и в немецком языке она разбиралась не больше, чем обезьяна в квантовой физике. Но работать недавней выпускнице где-то надо, а обучение студента, как любил говорить ректор, на девяносто процентов состоит из собственного труда и лишь десятая часть является заслугой преподавателя. Так что Иришка своими корявыми предложениями на языке, которого она старалась по возможности избегать, никому не вредила. Составляла списки литературы да тыкала наманикюренным пальчиком в номера упражнений, которые не могла проверить. Да будут благословенны ключи в конце учебника!
Покойный тесть Короткина часто упрекал зятя в том, что тот чересчур высокомерен по отношению к окружающим, что смотрит на них с неприязнью, не замечая положительных черт.
«Было бы что замечать!» – думал Виктор, оглядывая собравшееся на кафедре общество. Вот Макарычев. В кои то веки пришёл вовремя. Девяносто три года, семьдесят лет в институте, пятьдесят из них в должности завкафедрой. Еле ходит, а всё туда же! Даже случившийся три года назад инсульт не остановил. Михаил Фёдорович всё так же пыхтит, агитируя студентов голосовать за коммунистов и ностальгируя по ушедшему времени. Сейчас сидит, расстелив на столе платок. Сосредоточенно чистит варёное яйцо.
Рядом Ирина Ивановна Голубева, некрасивая тощая дама, прозванная из-за больших круглых очков фрау Ойле, госпожа Сова.
– Я думал, вы поборница правильного питания, не жрёте всякую гадость, – заметил, скорее по привычке, Короткин.
– Как вы можете! – взвилась та. – Разве это гадость?
– Конечно нет, – согласился он и бросил взгляд на огромный кусок шоколадного торта в её тарелке.
В кабинет ворвался Игорь Верёвкин, растолкал всех, устроил суету и отыскал наконец в самом дальнем углу покрытый пылью плакат с немецким алфавитом. Игорь излучал незамутнённый оптимизм молодого преподавателя и был полон свежих идей и оригинальных методик. Он рвался работать, он любил работать и хотел делать это как можно лучше.
«Любопытно, на сколько тебя хватит, романтик наш недобитый?» – подумал Короткин, пятясь в коридор. День начинался обычно. Точно так же как предыдущие. Менялись лишь детали. Главное же неизменно: девушка на остановке, Макарычев в роли завкафедрой, фрау Ойле с тортом, неистощимый оптимизм Игоря и тупость Иришки.
Однообразие жизни вначале рождает скуку, после – раздражение.
Противное зудящее раздражение разъедало Виктора изнутри. Это чувство не выплёскивалось у него в агрессию, не переходило в крик, а зудело потихоньку, не особенно мешая, но и не доставляя радости.
Короткин дотащился до кабинета, рухнул на старый скрипучий стул и, подняв взгляд на стену перед собой, закрыл от возмущения глаза. На ней, от окна до окна, красовался красочный плакат с улыбающимся Гёте. Великий немец держал в руке книгу Гюнтера Грасса и улыбался. Плакат до дрожи раздражал Виктора. Разве мог живший в восемнадцатом столетии Гёте читать роман писателя из века двадцатого?
Короткин нервно постучал по столу.
«Нелепость, – пронеслось в его голове, – вся наша жизнь одна сплошная нелепость».
Глава 3
Утро казалось удивительно длинным. Оставшись один, Владимир Николаевич побродил бесцельно по квартире, вымыл пол в кухне и прихожей, ещё немного походил из угла в угол, повесил наконец полочку в ванной. Присел выпить чая, да так и застыл на полчаса, не прикоснувшись к чашке: по радио передавали отрывок из «Дон Кихота». Владимир Николаевич подумал, что интересная в общем-то книга, забавная, где-то она лежала. Сервантес отыскался на верхней полке книжного стеллажа. Никому не нужный, увесистый том медленно покрывался пылью – читать в доме некому. Владимир Николаевич смахнул пыль, пробежал глазами пару страниц и сдался – не для него подобное занятие. Слишком тяжело ему даётся чтение. Вот дочь всегда любила читать. Раньше. Нужно попробовать отыскать аудиокнигу. Вместе и послушают.
Около полудня позвонил Травкин и, захлёбываясь от радости, сообщил, что оказался прав, что сажают их дома не за свой счёт, а с оплатой. И этого он, Травкин, добился. Скажите спасибо, что есть такой человек в коллективе, а то уйдёт на авиазавод в самой Москве который и поминай как звали. Кто тогда за рабочего человека вступится?
Владимир Николаевич сказал «спасибо» и отключился. Вот же человек! Врёт и не краснеет! Ничего он не добивался, потому как кишка тонка. Просто Лещенко как всегда ляпнул не подумавши, а потом поразмыслил да и дал задний ход. Что же касается авиазавода, то там конечно неплохо бы поработать: чистота, порядок, новейшее оборудование. Вот только кому там нужен балабол Травкин, не вылезающий с больничных. Поработает пару месяцев и очередная болячка нападает на бедного Ивана Петровича.
– Запой? – вежливо интересуется Лещенко. – Ты смотри у меня!
Травкин начинает визжать как подрезанный, справки в лицо тыкать.
– Тебе, может, инвалидность, а? Раз ты такой больной? – не унимается начальник.
Визг Травкина переходит в невнятное бормотание, из которого можно различить «права не имеете», «не виноват, что больной», «у меня семья», «кому-то хорошо, у кого-то пенсия». Нет, не удержаться ему в приличном месте.
Владимир Николаевич посидел ещё пару минут задумавшись, постучал пальцами по столешнице, а после собрался в магазин за вкусностями.
Яна всегда ругала отца, называла транжирой. Оно и верно. Стоит только деньгам попасть старику в руки как словно страсть какая его охватывала, бежал тратить и ничего не мог с собой поделать.
Дождь тем временем совсем прекратился. Небо засияло голубизной. Владимир Николаевич брёл по улице, наслаждаясь мягкими лучами осеннего солнца. Путь он выбрал неблизкий и, сказать честно, непривлекательный, через заросший пустырь по узкой тропинке.
Дело в том, что пару дней назад на этом самом пустыре, аккурат у полуразвалившегося сарайчика, в густой пожухлой траве заметил он белоснежный бутон, похожий на крупную каплю. Владимир Николаевич, осторожно обходя мусорную кучу, приблизился к сарайчику и увидел его. Цветок распустился и сиял словно звезда, и уже не видно было ни разбитых бутылок, ни высохшей травы, ни грязи.
«Октябрьская звезда», – подумал старик. Он был чрезвычайно горд собой. Редко, очень редко удавалось ему придумать что-то новое и интересное. Недостаток воображения, говорили ему.
Владимир Николаевич достала телефон, провозился с ним минут пять (Ох уж эти современные технологии!) и сумел-таки сфотографировать свою находку. Он представил было, как похвастается цветком перед дочерью, но тут же вспомнил, что единственное, что сможет – это описать звезду словами. Но такую красоту разве опишешь?
– Володь, ты что ли? – как гром среди ясного неба прозвучал неприятно высокий голос. Аж уши заложило! – Ты чего раскорячился?
Для принятия приличной позы потребовалось время. Женщина терпеливо ждала. Владимир Николаевич уже догадался, что врасплох его застала Нина, работавшая лет двадцать назад в отделе кадров не существующего ныне завода.
– Прекрасно выглядишь! – улыбнулся он. – Совсем не изменилась.
Нина недовольно хмыкнула, поправила сползший на левую сторону пучок и выкрикнула:
– А какими трудами! – Владимиру Николаевичу стрельнуло в ухо, случайный прохожий шарахнулся в сторону, развернулся и поспешил прочь. – Какими трудами я этого добилась! В наше-то время!
– Да, – согласился Залесский. – Годы своё берут. Ничего не поделаешь.
– Да какие годы! Жизнь! Цены растут! Жить не на что!
– Они всегда растут, – отмахнулся Владимир Николаевич. Он не любил переживать из-за вещей, которые от него не зависели.
– Да? А пенсии – нет!
Старик словно и не слышал.
– Коля, – произнёс он.
– Кто? – не поняла Нина.
– Мой брат старший. Я ещё дошколёнком был. Осенью помню хотел бежать на улицу. Гулять, наверное, хотел. Не помню. Только ливень за окном. А я сижу подле окна и реву, потому что не выйти теперь. Зачем мне туда надо было? Казалось, что останусь дома и что-то важное пропущу. Коля сел тогда рядом и говорит: «Чего ревёшь? Будешь реветь, дождь кончится? Не кончится. Ему на нас наплевать. Пойдём лучше пирожки есть».
Владимир Николаевич замолчал.
– И что?
– Ничего. Так вспомнилось.
Нина замерла, всмотрелась в него внимательным взглядом, вздохнула и побежала по своим делам. «Совсем сдал! – пронеслось в её голове. – А каким мужчиной был видным!»
Глава 4
Вальяжно развалившись на стуле и отведя взгляд в сторону, подальше от улыбающегося с плаката Гёте, Виктор вещал о втором передвижении согласных. Вещал медленно, проговаривая каждое немецкое слово. Нужды в подобной тщательности не было никакой. Виктор не питал иллюзий насчёт умственного уровня своих студентов. Желающих сделать немецкий своей профессией было так мало, что на факультет брали всех, кто умел связать пару слов, назвав своё имя и возраст.
Попадались среди них и удивительные экземпляры. К примеру, Доронин. Сидит в первом ряду и старательно пучит глаза. Глаза при этом круглые и пустые, будто стеклянные. Или вот Парамонова. Усердно пишет, не поднимая головы и не останавливаясь ни на секунду. Остальные даже не пытаются принять заинтересованный вид. Короткину всё равно: не спят и ладно.
– Если вам когда-нибудь придёт в голову распрощаться с нашим бренным миром, – Виктор перешёл на русский. – То подумайте вот о чём: красивых способов не существует. Кажется, чего проще, напиться снотворного, лечь в красивой позе и заснуть навсегда.
На последнем ряду хихикнули, Доронин часто заморгал. Парамонова даже головы не подняла, продолжая писать.
– Вот ляжете вы красиво на кровати, платьице расправите, – Доронин вздрогнул. Короткин усмехнулся. – Хорошо, не платьице, трусы в горошек шёлковые.
В аудитории захихикали. Виктор невозмутимо продолжил:
– Закинете в рот горсть таблеток, побольше да позабористей и станете ждать, представляя, как обнаружат вас мёртвого и красивого. Только красоты не будет! Всё, что вы в рот закидали из вас наружу полезет. Вас охватит паника, сразу же умирать расхочется и рванёте вы в уборную, поближе к белому другу. По дороге вас вырвет прямо на гладкий пол, и вы в панике поскользнётесь, полетите вниз и, ударившись головой о край унитаза, заснёте вечным сном. Впрочем, вы ведь этого добивались, верно?
Виктор вздохнул.
– Вместо красивой картинки получится отвратительное зрелище. Только представьте, как это выглядит…
Задумавшись, он замолчал. Вот ведь как бывает: годами не помнишь, а оно вылезает вдруг наружу так, что не затолкаешь обратно. Виктор поморщился. Неприятно-то как! Утром, когда он курил у второго корпуса, до него донёсся кусок разговора двух студентов.
– Да говорю ж я тебе, Есенин это! В его стиле. Послушай! Сквозь звёздный звон, сквозь истины и ложь, сквозь боль и мрак и сквозь ветра потерь… Есенин же!
– Какой Есенин! Нет у него такого! Больше на Заболоцкого похоже.
– Асадов, – произнёс, не оборачиваясь, Виктор. – Эдуард Асадов.
– Спасибо, – хором произнесли студенты и быстро ретировались.
Виктор не любил поэзию, считал её бесполезной. Он конечно мог процитировать Гёте, Шиллера и прочих немецких поэтов в оригинале и в различных переводах. Но того требовала работа. А ещё Асадова, ставшего первым звеном той цепи, что вытащила наружу прошлые переживания.
Лет пятнадцать назад он часто бывал в одной из школ города, в которой проходили практику его студенты. Литературу в той школе преподавала учительница со звучным именем Изабелла Львовна. Имени своему она нисколько не соответствовала. Маленькая, худенькая, со старомодной «химией» на голове, она тем не менее притягивала Виктора той странной силой, которую он никогда не мог описать, но которая, тем не менее, влекла его к неприметным на первый взгляд женщинам.