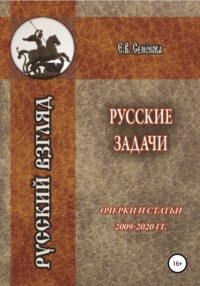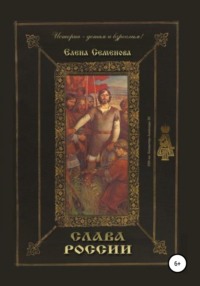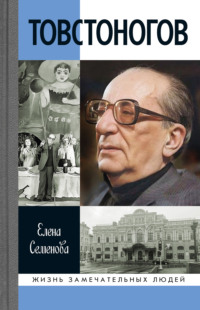Полная версия
Территория жизни: отраженная бездна
Арине в этом смысле было легче. Она никогда не была привязана к какому-либо месту и теперь, дожив до сорока лет, жаждала, наконец, обрести свой дом. Для Лары же родительская квартира была домом, в котором было некогда много счастья. Да, с уходом дорогих людей, дом стал уже не тем, точно бы вдруг отовсюду потянулись сквозняки и выстудили прежнее тепло, развеяли былой уют. И всё же стены помнили всех, кто жил, кто часто бывал в них, хранили их голоса, тепло их рук, касавшихся их, их дорогие и незабвенные тени… С этой памятью порывать было мучительно. Но и оставаться с каждым годом становилось тяжелее – неузнаваемо менялось всё вокруг, вид за окном, люди, жизнь. Лара понимала, что её попытки спрятаться, как в раковине, в родных стенах, напрасны. Эти стены уже не могли защищать. Даже на создание иллюзорного мира, утешающего душу, уже не были они способны. Стены помнят тени и голоса, но не могут заменить живых людей. И однажды заставляют лишь острее чувствовать отсутствие последних…
Арина же была настойчива:
– Квартиру мы, конечно, продавать не станем. И ты всегда сможешь приехать сюда и… даже вернуться.
Тут подруга немного лукавила. Как бы могла вернуться Лара домой? Одна? А сама Арина – тут сомневаться не приходилось, из своего обретённого «укрывища» назад не поедет. Значит, как ни крути, а принятое решение равнозначно сжиганию мостов… А жечь мост к тому, что без малого полвека составляло твою жизнь – отчаянно больно! Но что делать? Есть люди, для которых вся жизнь состоит из боли. Из преодоления боли. Философ Ильин сказал: «Жизнь – это искусство страдать достойно!» И Лара от рождения постигала это тяжёлое искусство…
Бог дал ей ясный разум, творческую душу, богатое воображение. Природа «забыла» добавить к этому ловкие руки, быстрые ноги и даже речь… От рождения прикованная к инвалидному креслу, с трудом выговаривавшая отдельные слова, Лара была обречена на одиночество. Она смотрела, как весело и беззаботно играли её ровесники и всей душой рвалась к ним, но ноги! Предательские ноги не слушались её, как не слушались руки и язык. Что может быть мучительнее всё видеть, слышать, понимать – подчас лучше и острее других, слишком погружённых в суету, чтобы услышать, вникнуть, сосредоточиться – но быть всегда и всему посторонней. Всему и всем…
Да, некоторые добрые души, бывало, пытались с нею «общаться», но так, как они понимали это «общение» – поддержать, развеселить «больного ребёнка». Люди, отягощённые тяжёлыми недугами, обречены в восприятии других оставаться вечными «детьми», которых надо опекать, развлекать, но… не понимать. Не воспринимать всерьёз. Это отношение, даже со стороны близких, всего более изводило Лару. Она была взрослым человеком, пусть и мало видевшим настоящей жизни, зато в избытке изучившим её по книгам, которые составляли круг её самых верных, единственных друзей, но в ней продолжали видеть ребёнка, с которым можно и должно говорить лишь о предметах поверхностных. Поверхностность! – вот, чего не терпела жаждавшая глубины и искренности душа Лары. Поверхностность суждений, отношений, чувств… Она была женщиной со всеми свойственными женщине чувствами, но кто понимал и пытался понять эти чувства? Пожалуй, в глазах абсолютного большинства она и права-то не имела на такие чувства, да и попросту не могла их иметь… Душа, воспитанная галантным веком, искавшая поэзии, теплоты, нежности, была заточена в оболочку истерзанного болезнью тела, и никто не хотел вглядеться и увидеть, понять, принять её. Иной раз смотрела Лара на того или иного человека и нет-нет, а представляла себе, что он мог бы быть рядом с нею, и могли бы быть у них и прогулки до зари, и объятья нежные у порога, и, наконец, то, о чём в конечном итоге мечтает хотя бы затаённо любая женщина – колечко на палец, белая фата, «в болезни и в здравии»… Смотрела Лара на человека, а человек болтал какую-нибудь поверхностную ерунду, «развлекал болящую» или же вовсе не замечал её, будто бы она мебель какая или холодильник… И ничего, ничего, ничего не слышал и не понимал.
Люди вообще разучились понимать друг друга. Даже не имеющие никаких трудностей с речью… К чему, спрашивается, им речь? Неужели только для того, чтобы «трепаться» о пустяках, забалтывать всё важное, настоящее, искреннее? Люди как будто стали бояться чего-либо настоящего и искреннего, и слова стали нужны им не для сближения, а, напротив, чтобы понадёжнее отгородиться друг от друга. Вроде бы все со всеми «общаются», но… никто никому не нужен, никто никому не дорог. Да уже и слова из обихода вытесняться стали – смайликами… Зачем тратить время на слова? Поставил смайлик или парочку, кликнул, получил такое же в ответ – «поговорили», называется. Тысячи «друзей» у людей в соцсетях. «Друзей», которых не видели, не слышали, на которых наплевать… И в жизни? Никого… Ничего… Смайлики… А чувства что же? Ведь чувства настоящие, мысли настоящие смайликами не выразишь. Для чувств нужен язык. Язык русской поэзии… Не стало языка, умерли чувства. Или же наоборот? Сперва чувства зачахли, а уж затем атрофировалась человеческая речь, замененная набором слов из арсенала робота-помощника?
– Вот, и уедем подальше от этих роботов, которые когда-то были человеками! – говорила Арина. – Поедем туда, где ещё живые люди остались.
– А они точно остались?
– Зуб даю! А если нет… То хоть небо, лес и земля там точно настоящими будут! Ты только представь! Мы будем видеть восходы и закаты, и простор, дышать ароматом цветов и трав, слушать тишину, а не это чертову какофонию робото-идиотов… Птиц! Будем каждый день гулять по дорожкам под сенью деревьев… А потом греться у печи и пить малиновый чай и читать долгими вечерами хорошие книги… Мы будем… как у Ахматовой… «просто мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу и долго перед вечером бродить, чтобы унять ненужную тревогу»…
Нарисованный подругой рай манил сладостью грёзы, и Лара сдалась, доверив ей искать их будущую «тихую обитель».
С Ариной познакомились они случайно в месте самом неприятном – больнице. Лара проходила там плановое обследование, а Арина залечивала переломанные в автоаварии ноги. И, вот, ведь чудо какое: оказалось, что на редкость близки и вкусы их, и ощущение жизни, хотя столь разны были судьбы их и жизнь. Встретились две одиночки и друг друга неожиданно поняли, и из этого понимания, душевного родства явилась дружба. Последние три года они жили вместе, свою «двушку» на окраине Арина сдавала, откладывая деньги «в фонд будущего Дома Мечты».
И, вот, наконец, Дом был найден. Обеим он понравился сразу и безоговорочно. Настоящий русский терем! Среди лесов и полей! Сказка и только! И Лара решилась. И, приняв мучительное решение, уже не могла, не желала медлить с его осуществлением, чтобы сомнения не одолели, чтобы родные стены, молча укорявшие её предательством, не удержали.
Арина только и успела отремонтировать отопительную систему с водоснабжением и провести хилый, наскоро сбитый пандус – от ворот и вверх на крыльцо. На второй этаж Лара не тотчас смогла подняться. Это только теперь угрюмый Бирюк сконструировал, пробив потолок первого этажа, «винтовой пандус» с широкими «кольцами», делающими наклон его максимально пологим, а значит, безопасным для подъёмов и спусков. Конечно, Лара не собиралась жить на втором этаже или часто бывать там, но, однако же, сама возможность – должна же быть? Арина не сомневалась: должна. Она прилагала все усилия, чтобы сделать новый дом максимально удобным для проживания подруги. Сама придумывала различные приспособления, рисовала чертежи, а нанятый по рекомендации тёти Зои мастер воплощал их в жизнь.
Пандус был уже готов, и теперь бородач украшал резьбой его перила. Верные рука и глаз были у этого человека. Лара очень хотела сказать ему об этом, но стеснялась своей речи и отмалчивалась. А ещё как о многом любопытно было бы спросить этого странного человека. О нём уже наслышана она была от тёти Зои, и воображение подсказывало ей, что в жизни Бирюка должно было быть что-то трагическое, какая-то большая драма, тайна. А что может быть притягательнее драматической тайны? Её всегда хочется узнать…
На улице залаяли грозно собаки мастера. Выглядели эти звери довольно сурово, но на проверку оказались благородными и дружелюбными существами, вежливо лизавшими Ларе руки и ободрительно тычась мордами в её колени. Собаки особенно понравились Арине.
– Вот, – сказала она, – как маленько обживёмся, так заведём таких же. С детства мечтала: дом и две большие хорошие собаки…
При этих словах мрачное лицо Бирюка на мгновение осветила улыбка – единственный раз за всё время его работы в доме.
– Почему именно две? – осведомилась тётя Зоя.
– Не знаю… – пожала плечами Арина. – Вот, такой у меня идеал Дома был. Камин, большое уютное кресло, в кресле я с толстой интересной книгой, а по бокам две большие хорошие собаки. Что ещё нужно человеку для счастья?
– Может быть, человек?
– Может. Только человеки – звери ненадёжные. А собаки не предадут никогда.
На этот раз Бирюк не улыбнулся, но лицо его выразило явную солидарность с прозвучавшим утверждением.
Собаки ещё лаяли, когда Лара тонким слухом расслышала на крыльце шаги подруги, а с ними чьи-то незнакомые. Через несколько мгновений разрумяненная морозом и запорошенная снегом Арина вошла в дом. Румянец очень шёл её обычно бледному лицу, оживлял его. Да и вообще она очень оживилась в последнее время – устроение своего очага её явно вдохновляло. Вдохновлялась этим занимательным процессом и Лара. В горнице, самой большой в доме, ставшей их общей спальней, она разместила привезённые с собой вещи, которые не могла «предать» и бросить на квартире. Следом принялись за гостиную. В ней, однако же, менять было особенно нечего – старорусский уют, созданный прежними хозяевами, был мил сердцу обеих подруг. Постепенно нашли свое место картины, рисунки и фотографии. Библиотеку «депортировали» на второй этаж. Куда ещё было деть столько книг? Туда же отправились и некоторые вещи, которым тесно было в горнице. Часть книг решено было позже передать сельской библиотеке.
Едва Арина переступила порог, как Бирюк закончил работу и шагнул ей навстречу:
– Принимайте работу, хозяйка, – сказал глухо.
– Вы под доглядом хозяйки работали, – ответила та, легко обнимая Лару. – Если она работу приняла, значит, и я принимаю.
Пристальные синие глаза обратились на Лару, и она внутренне поежилась. А так, не укажи на неё подруга, так словно бы её и не было здесь… Отведя взгляд, она ответила, что всё просто чудесно, и она очень благодарна мастеру за работу. Арина начала было «переводить» худо разборчивую речь, но Бирюк неожиданно остановил её:
– Я всё прекрасно понял, не трудитесь. Спасибо на добром слове, Лариса Павловна!
Лара была удивлена. Оказывается, он даже имя её, даже отчество запомнил. А она думала, что вовсе не замечал…
Мастер чуть кивнул обеим хозяйкам:
– Хорошего вам вечера!
– Как странный человек, – заметила Лара, когда он ушёл.
– Загадочная личность, правда. И меня не покидает чувство, будто я его где-то видела прежде…
– Где?!
– Если бы я помнила! К тому же, вероятно, он тогда не выглядел таким Робинзоном Крузо… А, может, мне просто кажется. Но оставим на время нашего отшельника, нас с тобой ждут!
– Кто?! – изумилась Лара.
– Директор местной школы и библиотекарь. Мы приглашены на вечерний чай.
Лара немного смутилась: она не любила неожиданных приглашений и дичилась новых людей.
– Привыкай, радость моя, – улыбнулась подруга. – Здесь деревня, всё запросто. Все друг друга знают, все без спросу в гости ходят. Не бойся. По-моему, это добрейшие люди. А местный библиотекарь – просто чудо какое-то! Представь, он обошёл пешком и без документов почти весь свет! Мировой рекорд!
– Как?!
– Ну, вот, сама и спросишь у него – как. Он с удовольствием расскажет о своей Одиссее.
Такой рассказ такого человека грех было не послушать. Слушать Лара любила. Лишь бы саму не терзали особенно вопросами…
– Но как же мы пойдём по такому снегу?
– На крыльце нас ждёт Николай, сын директора школы. Он нас проводит. Что ты оденешь?
Лара на несколько мгновений задумалась: для чая в узком кругу в сельской избе-читальне, пожалуй, дресс-код не требуется? Она и так одета… Разве что волосы пригладить чуть и готово…
Арина проворно поправила подруге причёску: высокий зачес надо лбом и от висков – корзиночкой, как носили дамы в старину, а сзади пучок и сеточка, чтобы ничего не выбивалось и не торчало. Дальше настала очередь павлопосадского платка, сапог, шиншилловой шубки и рукавиц.
– Ну-с, вперёд, – Арина выкатила коляску на крыльцо, где стоял рослый молодой человек с непокрытой, несмотря на холод, головой. Рыжеватые волосы, весёлое с конопушками лицо – Ларе новый знакомец понравился. Сразу видно – открытая душа, никакой каверзы ждать не следует. Молодой человек дружелюбно поприветствовал её и, отстранив Арину, улыбнулся широко:
– С ветерком по нашим сугробам прокатить не обещаю, но доставить в целости и сохранности торжественно клянусь!
У Лары на сердце потеплело. Николай не изучал её с любопытством, не смотрел с сожалением – будто бы всё так и должно быть, и ничем не отличается она от других людей. У ворот она заметила ещё не успевшего уйти Бирюка. Тот некоторое задумчиво смотрел, как не без труда катит Николай увязающую в снегу коляску. А затем, не сказав ни слова, свистнул своим собакам, и скрылся вместе с ними в темноте.
Лара чувствовала себя неловко, что постороннему человеку приходится возиться с её непригодным для снежных заносов «транспортом». К счастью, до школы и расположенной при ней библиотеке было подать рукой, но стало немного грустно от мысли, что всю окрестную красоту придётся наблюдать главным образом из окна да с крыльца своего дома. Для «маломобильных граждан» и город-то трудно проходим, а уж дороги сельские… Впрочем, дорога здесь всё-таки асфальтированная, значит, с весны по осень по ней можно будет перемещаться вполне свободно.
Вечер выдался неожиданно чудным. За столом в уютном библиотечном помещении собрались директор школы Лекарев, статный, седобородый мужчина преклонных лет, чем-то напоминавший Тургенева, его супруга, Сима, очень живая и подвижная, несмотря на дородность, их сын Николай и «Глебушка», Глеб Родионович, хранитель библиотеки. К чаю были поданы шедевры кулинарного искусства Серафимы Валерьевны – её варенья, пастилы и крохотные, таящие во рту пирожки с разными начинками, именуемые ею «пташечками». Только вернувшись домой, Лара догадалась и оценила такт гостеприимных хозяев – понимая, что плохо владеющему руками человеку будет неловко «лопать» большие пироги, они приготовили именно эти «пташечки», и даже аккуратные вилочки к ним подали, чтобы ей, Ларе, было удобно…
«Поедем к живым людям», – говорила Арина. Глядя на Лекаревых, Лара поняла, что именно о таких людях говорила её подруга. Живые, сердечные, тёплые, без лукавства участливые. В их обществе Лара не чувствовала себя лишней, «мебелью», развлекаемым «ребёнком». Хотя и впервые встретились, а как-то легко и непринужденно всё было, естественно. Солировал, конечно, Глеб Родионович, рассказывавший гостьям о своих удивительных странствиях. Так и загорелась Лара – вот бы, о ком повесть написать! Ведь такого не сочинишь! Такое только жизнь сочинить может… Или, лучше сказать, только Бог…
– А когда я пришёл в Рим, то меня к Папе Бенедикту пригласили. Очень ему любопытно стало, что это за странник такой по миру именем Христовым бродит. Так, вот, я к нему с дороги и явился. БОсый… А что ж? Святитель Шанхайский Иоанн тоже по Парижу босым ходил, так его и прозвали – Иоанн Босой.
– И что же Папа?
– А что ж Папа… Уважительный. Поговорили мы с ним с четверть часа. С умным-то человеком всегда поговорить занимательно.
– А туфлю поцеловали?
– Да я как-то и не вспомнил, девочки, про их этот обычай. И они не напоминали, люди тактичные. К тому ж инославный я, что ж меня к башмаку-то Папину… А зато дал мне Святой Отец за своей печатью документ, что, де, он благословляет меня паломничество свое продолжать, и всем добрым католикам в том мне наказывает соспешествовать.
– И как, соспешествовали?
– Ну, я особо-то грамотой этой не козырял. Я ведь сам этот путь пройти должен был, а не с чьей-то протекцией. Но на таможнях пару раз помог мне Папин наказ.
Домой возвращалась Лара с ощущением пережитого чуда, и от того звездный снежный вечер казался ей особенно прекрасным. Лекаревы проводили подруг до самого дома, и Серафима Валерьевна пообещала зайти на другой день, побыть с Ларой – Арина собиралась отъехать навестить внука тёти Зои Алёшу. Сама старушка третьего дня занемогла, а мальчик ждал приезда бабушки. Делать было нечего, и Арина вызвалась съездить вместо неё, отвезти гостинцы и успокоить сиротку. Немыслимо же, чтобы ребёнок ждал родного человека и не дождался, и даже не знал, что с ним…
Напившись на ночь тёплой домашней ряженки, Лара ещё какое-то время делилась с подругой впечатлениями вечера, а затем забылась крепким, счастливым сном.
…А утром её разбудил знакомый зычный лай. Лара удивилась: она точно помнила, что сегодня Бирюк уже не должен был прийти. Стук в ворота сомнений не оставил: так стучал только мастер-отшельник. Сползла с постели сонная Арина:
– Что это он, ошалел, что ли, так рано… – она закуталась в длинный до пят тёплый халат, сунула ноги в короткие валенки с меховой оторочкой, наскоро расчесала густые пепельные волосы и, уже не закалывая, не укладывая их, ринулась в прихожую.
Лара ёрзала, не находя себе места, голоса снаружи звучали недостаточно громко, чтобы она могла из разобрать. Вскоре, однако, Арина в наброшенном на плечи пуховике вбежала в комнату с сияющими глазами и возгласом:
– Ларка, поднимайся живее!
– Что случилось?
– Сюрприз! Увидишь – не поверишь!
С помощью подруги кое-как одевшись и утеплившись, Лара перебралась в свою коляску. Ей было неприятно, что она не успела ни умыться, ни причесаться – всё-таки посторонний человек пришёл, негоже появляться перед ним не прибранной…
Но Бирюка уже не было на дворе, когда Арина выкатила кресло на крыльцо. То ли угадал он, что неловко хозяйкам представать перед ним только вставшими с постели. То ли не желал разговоров и тем паче благодарностей. Поймёшь ли этого загадочного человека? Так или иначе, а матера и его собак простыл и след, а вместо них у крыльца стояли кресло-сани, украшенные резными узорами. Увидев их, Лара не сдержала восторженного возгласа. Теперь не придётся тому или иному провожатому мучиться, таща по сугробам её неповоротливую коляску! Теперь…
– …С ветерком катать тебя будем! – словно слыша её мысли, рассмеялась Арина, обнимая подругу.
– Всё-таки он, видимо, добрый и хороший человек, – заключила Лара, любуясь своим «зимним экипажем».
– По-видимому, так, – согласилась подруга.
– Но как мы отблагодарим его?
– Надо что-нибудь придумать! Вот, вернусь и придумаем. Впрочем, ты можешь заняться этим и в мое отсутствие. У тебя воображение богаче моего, тебе и карты в руки!
Глава 5.
С самого утра, сжевав безвкусную пшенку и запив её сладким какао, Алёша занял наблюдательный пункт у окна – сегодня должна была приехать к нему бабушка, и мальчик с нетерпением ждал встречи с нею. Вот-вот появится на дорожке её движущаяся вперевалку фигурка с огромными сумками. И он, несмотря на окрики воспитательниц бросится ей навстречу и будет пытаться забрать эту непомерно тяжёлую для неё ношу. А она, поставив сумки на землю, обхватит его, прижмёт к себе крепко-крепко, и покрывая горячими поцелуями его лицо и голову, будет смеяться и плакать. Милая-милая бабушка, как всегда чудно пахнет от неё свежей сдобой и вкусными травами, как нежны её натруженные руки, как светятся лучистые глаза её, как сияет улыбка… Все горести, пережитые ею, не заставили потускнеть её солнечного лица.
Алёша ждал, но никто не приходил. То одна, то другая фигура появлялись на ведущей к корпусу тропинке, но всё это были не те, не те… Тревожно и маятно становилось на душе у мальчика. Бабушка ведь уже старенькая, вдруг и с ней что-то случилось? Как с мамой?..
Всё раннее детство, пора столь счастливая для большинства людей, отложилось в его исколотой, подобно больному телу, памяти, как сплошная чреда страхов, лишений, потерь, боли… Больше всех на свете Алёша любил маму, и, когда случалось ему, от природы болезненному и слабому, сильно хворать, то не так страшны и тяжки были ему его собственные боли, как сознание того, что боли эти ещё хуже терзают мать. Сознание своей невольной вины перед ней.
Мама была такой красивой, такой доброй и умной! Она так заслуживала счастья! И могло бы оно быть у неё, совсем другая жизнь могла бы быть, если бы не Алёша. Другие дети – радость для родителей. Их утешение. А кем стал он для своей матери? Болью. Мучением. Горем. Лучше бы никогда не рождаться на свет. Или умереть. И освободить её, не бременить более собой, не мучить… Может быть, тогда бы она была теперь жива? И жизнь её сложилась по-другому?
Алёша был слишком мал, чтобы хорошо помнить всё, что случилось с ним, с ними. Но врезалось в память, как мать вдруг резко изменилась. Практически перестала есть, стала читать вслух какие-то непонятные тексты, прежние красивые платья сменил странный серый балахон. Мама вдруг отстранилась от него, глаза её отныне смотрели куда-то мимо, и от этого отсутствующего взгляда мальчику становилось страшно. Потом появились какие-то неведомые люди, мужчины и женщины, одетые схожим образом, с которыми мать пела непонятные Алёше песни. С этою компанией оказались они вскоре в какой-то глухой деревне, до которой долго-долго ехали поездом… На новом месте жительства мама совсем перестала обращать на Алёшу внимание. Он и другие дети, бывшие в общине, были заброшены, предоставлены сами себе и росли, как зверята, маугли… Даже хуже, потому что зверят любят их матери, об их пропитании заботятся. И Маугли любили волки, приемным сыном которых он стал. Алёшу не любил никто. Его уделом стали холод и голод, вечный поиск еды… Одежда его износилась, тело зудело от укусов вшей. Но никому до этого не было дела… Однажды ночью в деревне начался пожар. Алёша и ещё несколько детей и взрослых успели выбежать и потом скитались по лесу, немало замёрзнув. В лесу их нашли спасатели и распределили кого куда. Отмытого и впервые накормленного Алёшу – во временный приют. Здесь нашла его бабушка и долго рыдала, видя, как истощён и напуган её внук. Её хлопотами его перевели в другой приют, поближе к родному дому, чтобы бабушка могла его навещать. Забрать внука старой и хворой женщине не разрешили… Так и жили теперь от встречи и до встречи, надрывая сердца и изматывая бабушкины таящие силы… И так далеко было ещё Алёше до совершенных лет, когда чиновные, ничего не понимающие указы, наконец, перестанут быть таковыми для него, и он сможет стать опорой для единственного родного человека!
Приют, где он находился уже несколько лет, мальчик ненавидел. Прежде здесь была старинная усадьба, своего рода «дворянское гнездо». От тех незапамятных времён сохранились толстые, крепкие стены, шикарная лестница у парадного подъезда, по которой дети, однако же, не ходили, так как их выпускали на прогулку со «служебного входа», то бишь входа для прислуги. От былого великолепия остались также колонны, пара изрядно обшарпанных львов, которых ребятня особенно любила, и руины фонтана, который никогда не бил, и разная мелочь вроде вензелей, остатков лепнины, балясин и прочих барских излишеств. Всё же прочее было переделано со свойственной переделывателям безжалостностью. Потолки бывшей усадьбы сочли чрезмерно высокими, а потому из каждого этажа сделали два, мало беспокоясь о том, что теперь потолки стали слишком низкими и словно придавливали ходящего под их сводами. На окнах первого этажа установили почти тюремные решётки, на остальные – пожалели денег – авось, никто не выпрыгнет. При этом великое чудо составляли коммуникации дома. Горячая вода в нём бывала не дольше полугода, её вкупе с отоплением легко могли отключить зимой из-за вечных неполадок в котельной, тогда в просторные палаты – каждая на двенадцать человек – вносили маленькие обогреватели, чтобы уж не обогреть (тепла от этих агрегатов хватило бы лишь на меленькую каморку), но хотя бы немного осушить влажный воздух. Первый этаж в такие дни заледеневал, стены его часто бывали покрыты плесенью, и лишь крысы чувствовали себя там вполне комфортно.
Огромные палаты были несколько лучше казарм и камер: узкие, пружинные кровати были всё-таки одноярусными. В остальном уровень был сходный. У каждой кровати стояла крохотная тумбочка, обыкновенно, пустая, поскольку держать в ней что-либо было невозможно из-за частых случаев воровства. Да и хранить детям, в общем-то, было практически нечего.
Если случалось поймать кого-то за обчищением чужой тумбочки, то воспитателям об этом факте докладывалось редко, разбирались сами – попросту били проштрафившихся, устраивали «тёмную». Били жестоко. Не только за воровство, но и за «стукачество». За последнее – особенно сильно…