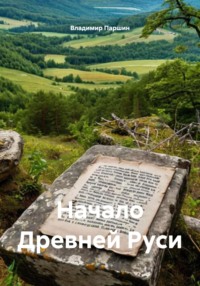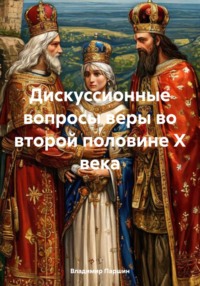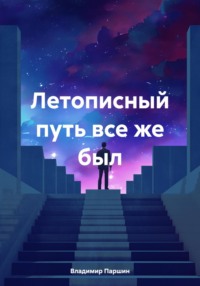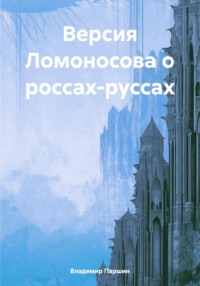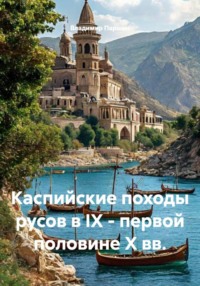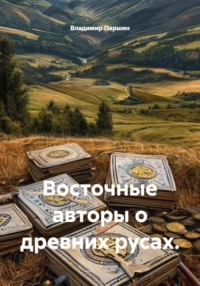Полная версия
Русь в IX и X веках
Какие выводы можно сделать? Квалифицируя нападение 860 года как лавину, стремительный поток, Фотий применил термин Ῥοῦς, который нашел отражение в Патмосской рукописи (Patmos. 266) и закрепился как этноним за народом. Т. е. оба этнонима Ῥῶς и Ῥοῦς вышли из греческой “кухни” (Окружное послание и синаксарь). Если форма Ῥῶς давала Рос, то Ῥοῦς давала Рус и производные типа Ruzzi – Rusci – Rusi. И еще одно примечание: дословное чтение греческого Ῥοῦς позволяет получить ту самую третью форму – роус, которая фигурирует в Русской Правде в XI веке (Правда Русская. Под ред. акад. Б.Д. Грекова. Т.1. Тексты. М. Л. Изд. АН СССР, 1940). Но греки все равно и дальше будут именовать русов росами.
Упоминание Ruzzi (Руси?или Руцци?) есть в Баварском географе. Год составления этого документа определяется фразой – Швеция осеменена словом Христовым, что означает, что он составлен не ранее 829 года, но не позже 850 г., когда список уже был включён в состав более обширной рукописи, принадлежавшей монастырю Рейхенау. Сама информация должна была попасть в него раньше последней даты. Он представляет собой описание городов и областей к северу от Дуная, т.е. список народов и племён, преимущественно славянского происхождения, населявших в 1-й половине IX столетия территории восточнее Франкского государства. В нем упоминаются Caziri и Ruzzi. Но определить локацию этих Ruzzi точно – проблематично: где-то рядом с хазарами.
Надо отметить, что упоминание Ruzzi Баварского географа не единственное. В одной из грамот (дарственная грамота Альтайхскому монастырю) короля Людовика II Немецкого от 16 июня 863 г. где-то в Энском лесу между Дунаем и слиянием рек Урль и Иббс (Верхняя Австрия) упоминается близкая форма – Ruzaramarcha. Она подтверждает земельные пожалования, сделанные Карлом Великим Альтайхскому монастырю в Баварии. Слово Ruzaramarcha состоит из двух частей – Ruzara и marcha. Последняя часть – германское обозначение пограничья, введенное еще Карлом Великим для территорий, находящихся на границе Франкской империи. По О.И. Прицаку, Ruzaramarcha относится к кельтско-фризскому прототипу и обозначает марка Руцов (по Прицаку, Ruzarii – руцарии). А.В. Назаренко [104] считает, что первая часть слова представляет собой Ruzari – древнее верхнегерманское слово русь. Он заключает, что средневековые формы наименования Руси были восприняты немцами не позднее первой половины IX в. и именно от самоназвания на славянском языке. По А.В. Назаренко, Ruzaramarcha означает Русская марка. Другую т. зр. излагает Виноградов А.Е. [21]. Приведем его комментарии: “Ruzaramarcha трактуется как название колонии купцов, которые вели торговлю живым товаром из Восточной Европы. Русский характер топонима исследователь [А.В. Назаренко] пытается подтвердить упоминанием этносоционима Ruzarii в грамоте, выданной купцам в Регенсбурге в конце XII в. Однако подобное решение вопроса не является убедительным для всех исследователей. Например, по мнению Е.А. Мельниковой и В.Я. Петрухина, вопрос о происхождении обоих упомянутых названий, как и их связь с древнерусским Русь, остается открытым … По нашему мнению, следы происхождения слова Ruzaramarcha могут вести на Апеннины. Объяснение значения слова Ruzaramarcha как русской колонии выглядит странным для IX в., когда нет никаких сведений о том, что этнохороним (этникон) Русь был распространен в славянских землях столь широко, чтобы происходящие из них купцы или невольники могли с ним ассоциироваться. … Что касается австрийского Подунавья, нет и археологических материалов, которые бы доказывали присутствие столь ранней русской (вне зависимости от этнического определения этой Руси) торговой фактории или колонии. Нет, впрочем, и данных о торговых связях Западной или Центральной Европы с Русью столь раннего времени (первое свидетельство Ибн Йакуба о купцах ар-Рус на маршруте между Прагой и Краковом традиционно относят ко второй половине X в.). Вызывает удивление и факт исчезновения слова Ruzaramarcha из источников после IX в., хотя, казалось бы, с ростом торговли число обитателей русской фактории должно было только увеличиваться. Появление же Ruzarii более чем три века спустя, причем уже на некотором географическом удалении, в Регенсбурге необязательно могло быть связано с более ранним топонимом австрийского Подунавья. Взгляд же на топоним исключительно через призму немецкого языкознания является, по нашему мнению, чересчур узким. Ruzaramarcha географически совпадает с областью, которая представлялась наиболее проблемной едва ли не на всем Дунайском торговом маршруте и последние столетия была известна под немецким именем Grainer Strudel, или Strudengau (область водоворота – ruzzare – вертеться). Именно перед этим отрезком бурлящей около скал быстрой воды купцы вынуждены были разгружать свои судна и переносить товар. Представляется странным, что такой важнейший географический и логистический феномен остался вне поля зрения ученых при рассмотрении вопроса о генезисе названия Ruzaramarcha. В этом смысле привлекают внимание не столько германские, сколько итальянские созвучные формы (учитывая близость -z-, -zz- как передающих фонему -ц-) … В этой связи привлекает внимание и вторая часть топонима, которая может представлять собой не немецкий суффикс, а производное от латинского существительного area – область, в купированном виде вошедшее в названия ряда североитальянских средневековых коммун (например, Ferrara от feriarum area). Таким образом, на наш взгляд, ничто не мешало топониму Ruzaramarcha образоваться именно по итальянской модели, т. е. он был записан немецкими монахами, возможно, с уст итальянских купцов, для которых Ruza – это место на реке, где судна закручивало течением, а area – его окрестности. Запись велась с немецкими орфографическими особенностями и с добавлением последнего элемента marcha (термин, обозначавший не только административную единицу, но иногда просто географическую область, часть ландшафта), который представлял собой германскую кальку от area … На наш взгляд, все это является еще одним штрихом к картине сложных мультикультурных контактов средневековой Европы, включая и ее восточную часть. Вместе с тем вышеизложенное позволяет, с одной стороны, выделить в этой картине новые этнокультурные составляющие, с другой – отделить из общего потока сведений о начальной Руси скорее случайные и не имеющие к ней прямого отношения лингвистические факты”. Учитывая неоднозначность в трактовке Ruzaramarcha, считаю невозможным учитывать это сообщение, как упоминание о русах и Руси.
В четвертой четверти IX в. имеем упоминания о русах при нападении на город Абаскун (Абесгун) [51]. Но этого сообщения нет в русских летописях, т.к. оно не имеет отношения к Приднепровью, а потому и неизвестно киевским монахам. В указанной работе утверждается, что поход был совершен во времена правления Хасана [ибн] Зайда Алида 864-883 гг. Это был первый набег русов на Каспий. Причиной данного похода, как пишут исследователи, послужила не жажда наживы, а сложившаяся экономическая обстановка. В 867 г. горцы Табаристана отпали от халифата и в 872 г. завоевали крупные торговые города Гурган, Казвин и Рей, являвшиеся важными перевалочными пунктами на торговом пути, связывавшем Ближний Восток и Закавказье с Хазарией и Восточной Европой. Вероятнее всего, русы выступили как защитники торговых интересов (Византии, Хазарии и арабов) – такова была цель этой военной экспедиции. Тем не менее, это вновь свидетельствует о том, что русы южной Руси использовались как хазарские наемники или партнеры. Сам факт похода говорит о том, что эти русы действуют как минимум с молчаливого одобрения хазар.
Не сообщается, как русы проникли в Каспийское море. На мой взгляд, были два варианта такого движения: через переволоку Дон-Волга или по Кумо-Манычской впадине. Маршрут через переволоку Дон-Волга, казалось бы, связан с волоком (как это трактуется во многих работах). Однако, ранее там можно было пройти и по воде. Открытые источники о трассе канала Волга-Дон (1927 г.) [93] позволяют заметить, что трасса проходит вдоль русла реки Карповка. Из нее переход в реки Песчаная или Червленная. Всегда был более предпочтителен водный путь, волоками пользовались только при отсутствии водного. А разливы Дона и Волги в весенне-летний период приводили к серьезному подъему уровня воды в присоединенных реках, в т.ч. вышеназванных. Разлив заканчивался в начале июля, т.е. длился почти три месяца в году (апрель-май-июнь). По данному водному пути можно было на плоскодонных суднах пройти из Дона в Волгу (т.е. грубо – из моря Азовского в море Каспийское). О наличии такого водного перехода сообщал Мас’уди, говоря, что “в верхней части хазарской реки [Волги] есть проток [масабб], вливающийся в залив моря Нитас [Понт] – море русов”. Эта же информация повторяется в сообщении о походе русов на Каспий после 300 г. х. (912 г.). О том, как русы могли пройти в Каспий, говорит запись, что вошли они в пролив [Босфор Киммерийский], достигли устья реки [Дона] и стали подниматься по этому рукаву, пока не добрались до Хазарской реки [Волги], по которой они спустились до города Атиль и, пройдя мимо него, достигли устья, где река впадает в Хазарское море… После половодья речки мелели и уже только на пересохшем участке по скользкому, илистому дну использовался волок.
Кумо-Манычская впадина (названа по рекам Кума и Маныч) – узкая низменность, разделяющая возвышенности (Ергенинскую и Ставропольскую). Ширина 20-30 км (в центральной части до 1-2 км), длина более 500 км. Основные реки впадины – Западный и Восточный Маныч, первая из которых относится к бассейну Азовского, вторая – Каспийского морей. Река Западный Маныч является левым притоком Дона. Сток реки Калаус шел как в Западный, так и в Восточный Маныч. В середине XIX века над Манычем археологи обнаружили торчащий из обрыва сохранившийся древнеримский корабль. Это означает, что в то время Маныч был судоходным проливом. Со временем из-за подъема местности и заиливания Маныча этот путь потерял актуальность. В 1965 г. здесь был создан каскад водохранилищ и образован Водный путь Азов – Каспий, проложенный по Кумо-Манычской впадине.
Согласно Л.Н. Гумилеву [30], в 893 г. хазарский царь послал морем в Византию войско для войны с болгарами. Греко-хазарское войско было разбито. Но, хазары не имели своего морского флота. Значит был использован флот русов. Это еще раз свидетельствует о существовании некоего образования русов с условным названием Южная Русь и наличии некоего соглашения между ними и хазарами. Но нет никаких сведений о границах этого условного образования, ни о его правителях в IX веке. Возможно, отсюда идут истоки легенды (в арабском "Собрании историй" 1126 г.), что «Рус и Хазар были от одной матери и отца …».
Вероятная локация южной Руси.
Одни исследователи видят локацию русов на Дунае в границах Болгарии. Основанием для этого им служат названия болгарских городов типа Киев-Киевец, Новград и др., а также «Список русских городов дальних и ближних». Дунайский Киев, согласно М.Н. Тихомирову (Русское летописание), ссылающегося на болгарского исследователя Р. Стойкова, действительно существовал вплоть до XV в. Но топоним «кий» имеется не только в Болгарии, но и в Польше, Литве, Моравии, Венгрии. Так что большое количество одинаковых названий в разных местах Европы не означает присутствия здесь русов. Более вероятно – славян. Но русы и славяне – разные этносы. Относительно списка Киприана («Список русских городов дальних и ближних») можно отметить, что список составлен в период его борьбы за митрополию Москвы – четкая целенаправленность списка. Следует отметить позднюю датировку этого списка – XIV век. И главное, патриарх Фотий указывает на значительную отдаленность локации нападавших: “нападали оттуда, откуда [мы] отделены столькими землями и племенными владениями, судоходными реками и морями без пристаней”. Это не Дунай, который рядом. К тому же какая-никакая база имперского флота была в Исакче. Поэтому дунайская локация отпадает.
Другие исследователи склоняются к тому, что росы-русы были на Днестре. Основанием для этого им служит название пролива, через который Днестровский лиман соединяется с Черным морем – Цареградское гирло. Это узкий судоходный искусственно-углубленный пролив. До углубительных работ его глубина составляла 10 футов – 3м [87; 136]. Значит в самый сухой период, когда уровень вод в реках и озерах и даже в Каспии был на 3-4 м ниже современного, по Днестру было проблематично дойти до этого мелкого лимана. С моря суда с осадкой более 7-8 футов [2,1-2,4 м] не могли подняться по лиману к городу Аккерман (совр. Белгород-Днестровский) для разгрузки и стояли на якорях в море у пролива шириной всего 300 м, создавая естественную блокаду. Отклоняется.
Ряд исследователей считают, что локация русов была в низовьях Днепра. Низовья Днепра начинаются от современного г. Запорожье, где Днепр делится на два рукава и образует остров Хортица, и заканчиваются устьем. Ниже Хортицы река текла многими руслами по болотистой равнине, которую весной и во время летних паводков заливала вода. Прадельта Днепра со временем переместилась в широтном направлении и заняла свое современное положение. А на месте старой дельты оставалось несколько постепенно отмирающих рукавов. Один из таких рукавов (с названием Герр – γέρρον, γέρρα, γέρρος, по-древнегречески означает “плетенка”, “переплетение”, “сплетение”) отделял западную часть Кинбурнского полуострова с Кинбурнской и Тендровской косами от основной материковой части. Это подтверждается исследованиями [98]. Он отделялся от нижнего течения Днепра примерно в месте впадения р. Ингулец и впадал в Каркинитский залив в районе города Садовска. В то время сток рукава Герр был более существенным, судя по вытянутой с севера на юг полосе подов и многочисленных озер. До сих пор в Каланчакский лиман Каркинитского залива впадает р. Каланчак – рудимент днепровского рукава Герр. В низовьях Днепра были сосредоточены запасы металлосодержащих песков – выносов Днепра из рудных районов. Из таких гематитомагнетитовых песков выплавлялись лучшие сорта железа. На берегу современного Егорлыцкого залива существовало довольно крупное ремесленно-производственное поселение с развитым железоделательным, стеклоделательным и другими ремеслами. Вот только не найдено здесь ни одного клада (ни монетного, ни вещевого) в интервале VIII-X веков. И это после слов Фотия о народе – “взошедший на вершину блеска и богатства”! Такая ситуация с кладами подвергает сомнению и недоверию возможность локации здесь росов-русов.
Относительно локации на Кубани. Проблема существования вблизи пролива Боспор Киммерийский Приазовской (Тмутараканской) Руси существует в исторической науке давно. Например, А.В. Гадло (Предыстория Приазовской Руси. Очерки истории русского княжения на Северном Кавказе), под Приазовской Русью понимает только “южное Приазовье – Тмутороканское княжество”. Однако данное княжество образовалось только во второй половине Х в. Как отметил А.С. Королев [73]: “исходя из отрицания присутствия русов в Приазовье и Крыму ранее второй половине X в., невозможно объяснить сообщение ал-Мас‘уди (ум. 956 г.) о том, что море Найтас (Черное море) – это «Русское море, никто кроме (Русов) не плавает по нему, и они живут на одном из его берегов» [11, с. 130]. Кроме того, в русско-византийском договоре 944 г. есть статья «О Корсунской стране», обязывающая русов мешать набегам на Херсон черных болгар, появляющихся со стороны степей [7, с. 25]. Для выполнения этого обязательства русы должны были находиться где-то недалеко от Корсунской страны – в Крыму, на восточных или северных берегах Азовского моря. … Выходит, Приазовская Русь существовала, но русы эти не были славянами.” Один из рукавов Кубани выходил в Черное море до XIX в. [3]: “Современный Кизилташский лиман представляет собой затопленное устье одного из рукавов Кубани, когда-то впадавшего в Черное море”. Это черноморское русло – река Старая Кубань – было основным, по которому осуществлялся речной сток р. Кубань через Кизилташский лиман в Черное море [147]: “Расчистка в конце XVIII в. русла р. Переволоки, соединявшей р. Кубань с Ахтанизовским лиманом, вызвала перераспределение стока в сторону Азовского моря, сопровождавшееся постепенным отмиранием старого черноморского русла и формированием современной Темрюкской дельты. За прошедшие немногим более 200 лет новообразовавшаяся дельта продвигалась в среднем со скоростью около 5-6 км в столетие”. О.Н. Трубачев [155] писал, что “страна древних русов располагалась в кубанских плавнях”. Археология свидетельствует о плотной застройке правобережья Кубани, хорошем развитии в регионе скотоводства, металлургии и гончарного ремесла. Западные климаты Хазарии (Таманский п-ов) были наиболее богатым районом каганата. Именно здесь проходил западный участок «великого шелкового пути». На Тамани была нефть, необходимая Византии для “греческого огня”. Именно здесь упоминается Идриси (1100–1165 гг.) город Русийа. Он писал: «От города Матраха до города Русийа двадцать семь миль… [Город] ар-Русийа [стоит] на большой реке, текущей к нему с горы Кукайа...». Матраха – это Таматарха. Византийская миля в Х в. составляла 1574 м (римская -1480 м). В 27 милях (примерно 40 км) от Таматархи – Кизилташский лиман, в который ранее впадала Кубань, текущая с предгорий Эльбруса. Возможно, город Русийа сейчас лежит под водой лимана, но эта точка была бы отличной локацией флота русов. Тем не менее, эта локация не отвечает сообщениям арабских авторов о том, что русы везут от славян меха и пр. товары. На Таманском п-ве в то время не было ни славян, ни мехов. Отклоняется.
О.Н. Трубачев [155] отмечал “феномен архаичной древнерусской гидронимии на Дону, в верхних двух третях его течения, как бы на подступах к Приазовью, бросается в глаза даже при первом взгляде. … Есть вероятие, что именно здесь начал шириться этноним Рус, Русь, почему говорят о Донской Руси. … Возьмем тот факт, что в достаточно своеобразном «Описании городов по северному берегу Дуная» четко названы Ruzzi, … в недвусмысленном контексте, по соседству с хазарами (Caziri), что как бы возвращает нас в Приазовье и Подонье. Примерно серединой того же века датируют известия о набегах с моря на Византию.” Археолог В.В. Седов [139] отмечал, что по Дону выше – в среднем и верхнем течении – обитали “неизвестные летописцу донские славяне”. Племенная принадлежность “донских славян” до сих пор неизвестна, поэтому везде они записаны в кавычках. “Донские славяне” неизвестны хроникам и выделяются лишь по археологическим свидетельствам – находкам особой археологической культуры – боршевской [130]. Хотя археологии соединили роменскую и боршевскую культуры в единую (роменско-боршевскую), между ними существуют отличия. Во-первых, в домостроительстве – полуземлянки боршевцев отапливались печами-каменками или печами, сделанными из камней и глины. Во-вторых, в погребальном обряде – часть боршевских курганов имеет более сложное устройство: внутри располагались деревянные погребальные камеры-домовины, вокруг которых устанавливались кольцевые оградки из деревянных столбиков. Эту культуру (бассейн Верхнего и Среднего Дона) некоторые археологи пытались связывать с вятичами и северянами. Но отношение “донских славян” к вятичам и северянам до сих пор остаётся неясным. Полагаю, что именно “неизвестные донские славяне” представляют собой народ – русы. По Дону русы могли спуститься к Меотиде, откуда выйти в Черное море, или выйти на переволоку Дон-Волга для движения в Каспийское море. Подтверждением донской локации может служить поход русов на Каспий уже после нападения на Византию. Сам факт прохода через территорию каганата говорит о том, что эти русы – в контакте с хазарами, действуют, как минимум, с молчаливого одобрения хазар.
Убедительным подтверждением корректности данной локации служит нумизматическая составляющая – клады. В Подонье – Подонцовье обнаружено много кладов арабских дирхемов с младшими монетами: Воргольское городище (в 18 км от г. Елец Липецкая обл. – верхний Дон) – 778/779; с. Пятницкое (берег р. Большая Бабка, приток Северского Донца – р. Дон) – 778/779; слобода Урыв (с. Коротояк, Воронежская обл.– р. Дон) – 782/783; Верхний Салтов (Волчанский р-н, Харьковская обл. – р. Сев. Донец пр. Дона) 3 клада – 780/781; 787; 790/791; Сидоровское городище (Славянский р-н Донецкая обл.– ср. Сев. Донец- Дон) – 795/796; Алексеевский р-н Белгородская обл. (между Сев. Донцом и Доном) – 795/796; ст. Кривянская – 805/806; Цимлянское 2 клада – 807; 809\810; Завалишино (Ст. Оскольский р-н на р. Оскол – пр. Сев. Донца – Дон) 809/810 г.; Девица (Воронежская обл. Дон) – 837/838; хутор Ростовец (Воронежская обл.) – 863/864.
Т. о., наиболее вероятной локацией т.н. южной Руси в IX в., на мой взгляд, могло быть Подонье – Подонцовье.
Северо-западный регион.
Первые упоминания о северо-западе в русских летописях начинаются с изгнания в 862 г. (условная хронология) каких-то варягов, которым еще в 859 г. платили дань (цитируется по ЛЛ [119]): “Въ лѣт. [6367 (859)] [И]маху дань Варѧзи изъ заморьӕ. на Чюди и на Словѣнех. на Мери и на всѣхъ Кривичѣхъ.” Не указывается этническая составляющая тех варягов. Попытка вести самостоятельное управление участком международного торгового пути привела к противостоянию участников процесса и нарушению функционирования пути: “В лѣт. [6370 (862)] Изъгнаша Варѧги за море … И почаша сами в собѣ володѣти. и не бѣ в нихъ правдъ. и въста родъ на родъ. [и] бъıша в них̑ усобицѣ и воєвати почаша сами на сѧ [и] рѣша сами в себѣ. поищемъ собѣ кнѧзѧ. иже бъı володѣлъ нами. и судилъ по праву”. Это значит, что в течение хотя бы одного года было какое-то самоуправление. Следовательно, послать за князем могли уже в 863 г. Очевидно, что отправка послов за князем и возвращение обратно должны были состояться в одну навигацию, т. е. в течение 863 г.
Если посмотреть на нумизматическую составляющую, то можно заметить устойчиво работающий путь в первой трети IX в. и сбой в работе во второй. Но уже в третьей трети IX в. работа пути вновь стабилизировалась. Эти данные говорят о том, что к самоуправлению местные общности перешли раньше, чем сообщают летописи.
Ладожское озеро покрывалось льдом (особенно северная часть) уже в конце октября, а вскрывалось ото льда в конце апреля-мае. Поэтому, если послы убыли водным путем, то не раньше мая 863 г. Плавание было каботажным – вдоль берега на расстоянии видимости. За исходные возьмем данные приведенные Ю.Ю. Звягиным (Занимательные истории времен князя Владимира. Ломоносов, 2019 г. 248 с): “От Новгорода по воде до Волина (в устье Одера) расстояние около 1575 км, которое преодолевается за 28 дней (Херрманн Й. Славяне в Германии. Берлин. 1986). До Любека еще 300 км по воде. Т.е. еще 6 дней. Итого при благоприятной погоде 34-35 дней плавания. С учетом изменчивости погоды плюс еще 7-10 дней”. Значит через 45 дней после выхода из Ладоги (в середине мая) могли прибыть в Любек (в конце июня-начале июля). Обратным отсчетом – от середины октября (конец навигации на Ладоге) 45 дней дают конец августа. Т.е. было почти два месяца для подготовки кораблей, продуктов и дружины.
“И изъбращасѧ .г҃ . братьӕ с родъı своими. [и] поӕша по собѣ всю Русь. и придоша старѣишии Рюрикъ [сѣде Новѣгородѣ]. а другии Синеоусъ на Бѣлѣѡзерѣ. а третии Изборьстѣ Труворъ. [и] ѿ тѣхъ [Варѧгъ] прозвасѧ Рускаӕ землѧ Новугородьци ти суть людьє Нооугородьци ѿ рода Варѧжьска . преже бо бѣша Словѣни”. [.г҃. – в алфавитной системе счета означает -3-].
Вот здесь первое отклонение от реалий IX века. Прежде всего – не было еще никакого Новгорода. Поэтому сесть Рюрик мог только в Ладоге или в Любше. Состояние точек “приземления” призванных отражено в Приложении «Археология северо-запада в IX в.»
Далее, слова “поӕша по собѣ всю Русь” должны бы означать, что вышел весь народ с этниконом Русь. Но это в принципе неверно, т. к. никакими хрониками не зафиксирована такая многочисленная миграция. Здравый смысл не принимает такого содержания. Как можно еще понимать эту фразу? Вышли только три рода (возможно, русских), т. е. глава семьи и его ближайшие родные. Тогда слова «со своим родом» – означает со своей семьей.
Очевидно, что запрос был на князя, способного навести порядок, т.е. с вооруженным сопровождением (имеется в виду вооруженная дружина). Тогда все понятно: пошли на северо-запад (возможно, русский) князь (Рюрик) и двое воевод (Синеус и Трувор; пока нет оснований называть их русскими и братьями). Все трое с дружинами.
Летописи утверждают, что “от тех [варяг] прозвалась Русскою земля”. Этот пассаж лежит в створе литературного творчества. Пример, скифы представляли разноэтническую федерацию, но авторы редко называли конкретный этнос, чаще всех их называли только скифами. Покоренные Карлом Великим нации, некоторые авторы называли, по названию этноса-покорителя франками, а не по коренной этнической принадлежности. Так и здесь – раз пришел русский князь, значит земля стала называться русской. Ведь летописец подчеркивает – преже бо бѣша Словѣни.