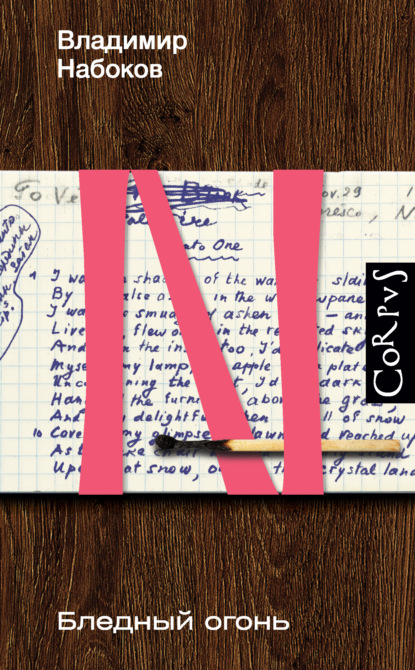Полная версия
Письма к Вере
В конце лета 1923 года Набоков нашел Веру Евсеевну в Берлине – она сняла маску, а вместе с ней отбросила все свои опасения. Как и другие бесприютные юные влюбленные, они еженощно бродили вместе по вечерним улицам. Единственное письмо этого периода, датированное ноябрем 1923 года и отправленное из одного конца русского западного Берлина в другой, отражает интенсивность их раннего взаимопонимания, накал их первых разногласий.
В конце декабря 1923 года Набоков отправился с матерью, младшими братом и сестрами, Кириллом, Ольгой и Еленой, в Прагу. Там Елена Ивановна Набокова могла получать ежемесячное пособие как вдова русского ученого и писателя. В период этой ранней, продлившейся несколько недель разлуки Владимир писал о сосредоточенной работе над своим первым большим произведением – пятиактной пьесой в стихах «Трагедия господина Морна»[22]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Conclusive Evidence: A Memoir (N.Y.: Harper and Brothers, 1951); в новой редакции:Nabokov V. Speak, Memory: An Autobiography Revisited. N.Y.: Vintage, 1967. P. 295 (Цит. по: Набоков В. Другие берега. М.: АСТ: Corpus, 2022. C. 302). Набоков впоследствии утверждал, что первое англоязычное название автобиографии «Убедительное доказательство» («Conclusive Evidence») построено вокруг сочетания двух «v» в середине, обозначающих Владимира и Веру (Dommergues P. Notes et Documents: Entretien avec Vladimir Nabokov // Les Langues modernes. 1968. № 62 (январь – февраль). P. 92–102, 99).
2
Письмо от 13 августа 1924 г.
3
Nabokov V. Strong Opinions. N.Y.: McGraw-Hill, 1973. P. 145.
4
Письмо Набокова к Ирине Гуаданини от 14 июня 1937 г., в котором говорится, что 14 лет его брака представляли собой «ясное счастье» (Коллекция Татьяны Морозовой).
5
Посвящение на книге, опубликованной в 1951 г., было сделано в 1950 г.
6
Интервью В. Е. Набоковой Брайану Бойду 20 декабря 1981 г.
7
Так помечено в альбоме стихов Сирина, который В. Е. Набокова, судя по всему, начала собирать позднее, когда она стала его архивариусом, одновременно с другими альбомами его прозаических произведений и критических отзывов (Vladimir Nabokov Archive. Henry W. and Albert A. Berg Collection, New York Public Library. Далее – Архив ВН в Нью-Йоркской публичной библиотеке).
8
Тот факт, что двадцатитрехлетний автор смог незадолго до встречи с будущей женой опубликовать четыре книги за четыре месяца, ставит под сомнение такие, например, утверждения: «Адвокаты, издатели, родственники, друзья – все сходились в едином мнении: “Без нее он ничего бы в жизни не достиг”» (Шифф С. Вера (Миссис Владимир Набоков): Биография / Пер. с англ. О. Кириченко. М.: КоЛибри, 2010. С. 13).
9
Стихотворение написано 14 января 1923 г., опубликовано в альманахе «Медный всадник» (Берлин, [б. д.] С. 267; рекламировался в «Руле» 18 и 25 марта 1923 г.). Перепечатано:Набоков В. Стихи. Анн Арбор: Ардис, 1979. С. 76. Сестра Набокова Е. В. Сикорская, всегда внимательно следившая за литературной и личной жизнью брата, сообщила мне, что стихотворение посвящено Светлане.
10
Написано 16 января 1923 г., опубликовано в альманахе «Медный всадник», как и «Через века» (с. 268). Е. В. Сикорская утверждает, что оно тоже адресовано Светлане.
11
Написано 7 марта 1923 г. (Архив ВН в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Альбом 8. P. 26), опубликовано как «Сердце» в цикле «Гекзаметры» в «Руле» (1923. 6 мая. С. 2); перепечатано:Набоков В. Стихи. С. 94.
12
Написано 7 марта 1923 г. (Архив ВН в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Альбом 8. P. 27), опубликовано как «Властелин» в «Сегодня» (1923. 8 апреля. С. 5); перепечатано:Набоков В. Стихи. С. 125. В издании 1979 г. ошибочно датировано 7 декабря 1923 г.; в беловом автографе 1923 г. (Архив ВН в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Альбом 8) пометка к месяцу «III» сделана так, что ее можно прочитать как «XII», однако стихотворение идет вслед за другим, датированным «7–iii–23», а за ним следует датированное «19–iii–23».
13
Nabokov V. Strong Opinions. P. 127; Бойд Б. Владимир Набоков. Русские годы / Пер. с англ. Г. Лапиной. СПб.: Симпозиум, 2010. С. 640, примеч. 37.
14
Интервью Е. В. Сикорской Б. Бойду 24 декабря 1981 г.
15
В беловике альбома стихов Набокова (Архив ВН в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Альбом 8) часто появляется по несколько стихотворений в неделю, иногда – по стихотворению в день, однако с 7 мая по 19 августа 1923 г. в нем нет ни одной записи.
16
Копии этого письма к Светлане сохранились в архивах Зинаиды Шаховской в Библиотеке Конгресса США и в Амхерстском центре русской культуры (Амхерстский колледж, США).
17
Бойд Б. Владимир Набоков. Русские годы. С. 247.
18
Дата создания «Встречи» – 1 июня 1923 г. – взята из рукописи Набокова, сохранившейся в одном из альбомов, куда его мать вклеивала или переписывала его стихи (Аlbum 9. С. 48–49). Опубликовано: Руль. 1923. 24 июня. С. 2; перепечатано:Набоков В. Стихи. С. 106–107. Эпиграф из стихотворения А. Блока «Незнакомка» (1906).
19
Стихотворение (см. с. 45) пропитано не только полдневным зноем, но и жаром влечения. Никогда раньше не публиковавшееся, оно было адресовано одной-единственной читательнице. Набоков уже знал, что она умеет читать и понимать его поэзию, но вот сможет ли она почувствовать и разделить его желание?
20
Впервые опубликовано:Набоков В. Стихи. С. 112.
21
Письмо было написано около 26 июля 1923 г. или позднее. Стейси Шифф начинает свое жизнеописание В. Е. Набоковой именно с первых месяцев их знакомства, однако сразу же запутывается в фактах. Она верно указывает датировку письма Владимира к Светлане (25 мая), но потом допускает, имея в виду первое письмо к Вере: «А через два дня писал Вере Слоним. ‹…› Были ли его помыслы по-прежнему заняты Светланой? ‹…› Через сорок восемь часов после того, как он убеждал Светлану, что готов отправиться на другой континент, молодой поэт чувствует, что должен вернуться в Берлин, отчасти ради матери, отчасти ради некой тайны, которой “отчаянно хочется поделиться”» (Шифф С. Вера (Миссис Владимир Набоков). С. 20–21). Однако в первом письме Владимира к Вере дата не указана; Шифф путает датировку стихотворения «Встреча» (май 1923 г.), неверно приведенную в набоковском посмертном сборнике избранных стихотворений 1979 г. (Набоков В. Стихи. С. 107; тогда как настоящая дата написания – 1 июня 1923 г., что следует из рукописи (Архив ВН в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Альбом 9. P. 48–49)), с датой первого письма к Вере, не замечая того, что в письмо включено стихотворение «Зовешь…», написанное только 26 июля. В первом письме к Вере есть и другие указания на то, что оно не могло быть написано 27 мая 1923 г. Так, в него включено стихотворение «Зной», написанное 7 июня (список Елены Набоковой, см.: Архив ВН в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Альбом 9. Р. 54), и в нем есть отсылки к пьесам «Дедушка» и «Полюс», написанным 20 июня и 6-го и 8-го июля 1923 г. соответственно (см.: Руль. 1923. 14 октября. С. 6; 1924. 4 августа. С. 3).
Шифф пытается сказать, что, хотя Набоков выражает свою вечную любовь в письме к Светлане, он уже два дня спустя пишет страстное послание к Вере. Но согласно фактам, последнее прощальное письмо к Зиверт он написал 25 мая, после чего, через неделю, сочинил стихотворение «Встреча» – отклик на знакомство с Верой тремя неделями ранее, – которое в опубликованном виде стало непосредственным призывом к ней. На этот призыв Вера ответила несколькими письмами. Набоков, в свою очередь, отозвался на них двумя стихотворениями и письмом, к которому они прилагались. Так что перед нами не перемена романтических чувств всего за два дня, как это выглядит у Шифф, а два месяца призывов и откликов.
22
В журнальном варианте «Трагедия господина Морна» была опубликована лишь в 1997 г. (Звезда. 1997. № 4), а в составе книги она вышла только в 2008 г. (Набоков В. Трагедия господина Морна. Пьесы, лекции о драме / Состав., предисл., коммент. А. Бабикова. СПб.: Азбука-классика, 2008).