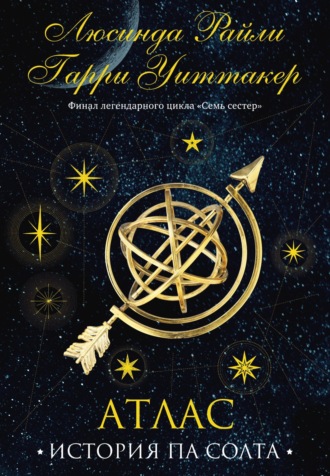
Полная версия
Семь сестер. Атлас. История Па Солта
«Однажды ты сделаешь это».
– Спасибо, но сомневаюсь, что это возможно. Я даже не представляю, что будет, когда меня выпустят отсюда, не говоря уже о приеме в консерваторию.
В глазах Элле заблестели слезы. Мне как никогда сильно хотелось заговорить и утешить ее, заверить в том, что я – живое доказательство безграничных возможностей. Но я воспротивился этому желанию.
У меня появилась идея.
Я быстро развязал веревочки, которые удерживали мою скрипку в сломанном футляре, и поднес инструмент к подбородку. Потом взял смычок, закрыл глаза и заиграл бетховенскую «Сонату № 9». Я играл для Элле и ощущал, как мое исполнение совершенствуется, как повышается значение каждой ноты. Когда я оторвал смычок от струн, то осмелился открыть глаза, чтобы увидеть ее реакцию.
Элле смотрела на меня широко распахнутыми глазами. Она больше не плакала.
– Бо… это было невероятно. Я знаю, что твой талант убедил самого мсье Ивана, но все-таки…
Я опустил голову. Адреналин курсировал по моим жилам, и понимание того, что мое исполнение возымело желаемый эффект, наполняло меня восторгом. Внезапно до меня дошло, что моя аудитория далеко не ограничивалась Элле. Я медленно повернулся и увидел целое море потрясенных лиц, обращенных ко мне. Брови мадам Ганьон, стоявшей у дальней стены, взлетели так высоко, что, кажется, могли оторвать ее от пола. К моему изумлению, она медленно вскинула руки и зааплодировала. Остальные понемногу присоединились к ней, и вскоре я услышал настоящие овации. Даже Морис и Жандрет, хотя они и не хлопали, удивленно таращились на меня. Должно быть, Элле поняла мое смущение, поскольку она взяла меня за руку, и это был едва ли не самый сладостный момент в моей жизни.
Аплодисменты стихли, и мадам Ганьон решила похвалить меня:
– Браво. Несмотря на свой возраст, похоже, ты заставил бы мсье Будена побегать за деньгами.
– Видишь, – прошептала Элле, – ты отлично справился. – Она поцеловала меня в щеку. – Спасибо тебе, Бо.
Я моментально залился краской и попытался скрыть замешательство, убирая скрипку в футляр.
«Когда я услышу твою музыку?» – написал я.
– Думаешь, мне захочется играть после этого? Это все равно что новорожденный младенец, читающий Шекспира.
«Я был бы очень рад».
Элле спрятала улыбку в ладонях.
– Ах! Ну, ладно. Я потренируюсь в выходные и буду готова, когда ты придешь в следующий вторник. По крайней мере, ты сможешь посоветовать мне что-нибудь дельное.
Когда Эвелин вернулась за мной, мадам Ганьон проводила меня до ворот и рассказала о случившемся.
– У него большой талант, и мы рады видеть его здесь.
В автобусе по дороге домой Эвелин ощутила мое восторженное настроение.
– Не могу поверить, что ты играл для детей! Это фантастическая новость, Бо. Я знаю, как обрадуется мсье Ландовски, когда узнает о твоей растущей уверенности.
Разумеется, Эвелин не могла знать, что мое исполнение предназначалось не для детей, а только для одной девочки, которая быстро меняла направление моей жизни.
Во вторник, когда я вернулся в «Apprentis d’Auteuil», Элле взяла меня под руку и велела следовать за ней. Мы пересекли передний двор; к моему удивлению, мадам Ганьон открыла дверь и разрешила нам войти.
– Она разрешила мне играть одной в общей комнате. Мне слишком неудобно устраивать представление для всех, как недавно сделал ты.
Мы быстро прошли по коридорам. Элле тащила меня с такой силой, что мне приходилось бежать трусцой, чтобы поспевать за ней. Когда мы пришли, я устроился на одном из старых стульев, где кожаная обивка протерлась до металла. Элле достала и быстро собрала свою флейту.
– Я решила, что буду играть Дебюсси, «Полуденный отдых фавна». Пожалуйста, не надо слишком резко критиковать мои способности, у меня никогда не было профессионального учителя.
Мне не верилось, что самое прекрасное человеческое существо на свете собиралось устроить личный концерт для меня.
– Я начинаю. – Она поднесла флейту к губам и сделала глубокий вдох.
Мне стало ясно, что она была одаренной исполнительницей. Но самым удивительным было то, что Элле научилась играть по книгам. Наверное, мне бы такое не удалось. И ее причина для выбора инструмента была благороднее моей. Это было данью уважения к ее потерянным родителям, способом связаться с ними, хотя их больше не было рядом.
Я закрыл глаза. Резонанс зала в старинном здании гарантировал приятное звучание. Тем не менее я заставил своего внутреннего «музыкального критика» оценивать технические особенности исполнения Элле, как она и просила. Я отметил ее неровное дыхание и поспешную игру, а потом взялся за перо.
«Расслабься». – Я показал ей записку.
Она прочитала мое сообщение и убрала флейту ото рта.
«Помни, я всего лишь десятилетний мальчишка!» – добавил я.
К моему восторгу, она рассмеялась и кивнула. Потом снова набрала побольше воздуха и заиграла фрагмент с самого начала. На этот раз ноты зазвучали без резкого стаккато, и я вдруг понял ценность перемещения в «священное место», описанное мсье Иваном. Когда она закончила, я встал и зааплодировал.
– Прекрати. Да, это было получше, но ты прав: в первый раз вышло ужасно. – Я покачал головой. – Не нужно быть снисходительным ко мне. Просто я очень нервничала, когда играла перед тобой, Бо. С прошлой встречи я только и думала о том, как бы произвести впечатление на тебя.
«Тебе удалось!» – Втайне я был чрезвычайно рад, что мое мнение многое значило для Элле.
– А теперь я поиграю на скрипке. Мне кажется, тут у меня получается не так хорошо, как на флейте.
Элле подняла инструмент к подбородку и заиграла «Дон Кихота» Штрауса. Ее оценка была правильной: на флейте она играла лучше, но демонстрировала обнадеживающий талант и на скрипке. Когда она закончила, я зааплодировал так же бурно, как и раньше.
«Не могу поверить, что ты самоучка».
– Спасибо. Мне самой иногда трудно поверить в это. Наверное, от одиночества. Но все равно скажи, что ты думаешь, Бо? Как мне учиться дальше?
«Флейта – не мой инструмент, но я постараюсь давать общие советы». – Я добавил список основных приемов, которым научился на занятиях с мсье Иваном.
– Боже мой, спасибо тебе. – Она внимательно изучила список. – Я постараюсь применить все это на практике. Здесь ты написал: «тренируй положение смычка». Можешь показать, что это значит?
Я подошел к Элле и забрал ее смычок. Потом встал у нее за спиной, взял ее за правую руку и аккуратно вытянул вперед, повернув ладонь в ее сторону. Потом я протянул смычок и совместил его с ее пальцами.
– Так? – спросила Элле.
Я кивнул, согнул ее большой палец и убедился в том, что он достаточно плотно прилегает к дереву. Затем я поместил ее средний палец прямо напротив, чтобы сустав только прикасался к смычку. Разумеется, скрипка была гораздо крупнее, чем полагалось для музыканта ее возраста (инструмент принадлежал ее матери), поэтому моя корректировка должна была казаться Элле вдвойне непривычной.
– Господи, я не понимала, насколько я ошибалась!
Я повернулся лицом к Элле и продолжил укладывать ее пальцы в положение, накрепко вбитое в меня уроками мсье Ивана. При этом я встретился с ее взглядом. Она смотрела на меня со странным выражением, как будто хотела, чтобы я что-то сделал, но не говорила, что именно. Я ответил вопросительным взглядом, и она захихикала, а потом наклонилась вперед и поцеловала меня. Ее мягкие губы прижались к моим, и мой мир изменился навсегда.
– Вижу, вы закончили музыкальный урок.
По моей спине пробежал холодок, когда я повернулся и увидел фигуру мадам Ганьон, маячившую в дверном проеме. Элле моментально принялась укладывать свою скрипку в футляр и разбирать флейту. Потом она побежала к двери.
– Я уберу инструменты в спальню, мадам Ганьон.
Мадам Ганьон выразительно изогнула бровь, но позволила Элле проскользнуть мимо нее в коридор. Мы остались в зале вдвоем, и мадам Ганьон окинула меня взглядом, который мог бы остановить скачущую лошадь. Мне вдруг стало очень стыдно. Элле получила особое разрешение играть для меня вдали от глаз других детей, и теперь создавалось впечатление, что я злоупотребил снисходительностью мадам Ганьон. Я поспешно достал ручку и начал писать извинения.
– Не пиши, просто сядь. – Мадам Ганьон указала на стул.
Я не сомневался, что она запретит мне приезжать в сиротский приют; разумеется, это означало, что я больше не смогу встречаться с Элле. Мой мир в считаные секунды начал разваливаться на части, и моя надежда превратилась в отчаяние. Я опустился на стул. К моему удивлению, мадам Ганьон закрыла дверь и уселась напротив меня. Должно быть, она заметила ужас в моих глазах, потому что неожиданно заговорила сочувственным тоном:
– Она не на шутку увлеклась тобой, юный мсье. Надеюсь, тебе известно, как хрупки девичьи сердца. Ты должен очень деликатно относиться к ней. – Я кивнул. – Не стоит и говорить, что если я снова увижу нечто… такое, то без колебаний угощу тебя палкой. Ты хорошо меня понял?
«Да, мадам Ганьон».
– Отлично. Теперь я хочу кое-что обсудить. Я проработала в «Apprentis d’Auteuil» последние двадцать лет и видела сотни детей, проходивших через двери приюта. Моей первоочередной задачей всегда были поиски новых домов и приемных семей для моих подопечных, как можно быстрее, но только не ценой их благополучия. – Мадам Ганьон помедлила и глубоко вздохнула. – После войны мы столкнулись с чрезвычайно тяжелым периодом, с отсутствием средств и множеством осиротевших детей. Я сомневалась, что мы сможем прокормить столько голодных ртов, уже не говоря о лекарствах, одежде, постельном белье и других вещах, необходимых для ухода за детьми. Положение было очень трудным, и это означало, что иногда я была вынуждена принимать жесткие решения. Элле и ее брат появились здесь вскоре после того, как их мать умерла от воспаления легких. За месяц до этого события супружеская пара, богатые иностранцы, попросили меня сообщить, если в приют попадут новорожденные, поскольку они сами не могли зачать ребенка. Я заверила их, что так и сделаю, и обычно я была бы только рада сразу передать ребенка в любящую семью. Но… у этого малыша была старшая сестра. В нормальных обстоятельствах я бы не допустила усыновления, если бы новая семья не согласилась принять их обоих. Насколько мне известно, когда дети теряют родителей, для них особенно важно оставаться вместе. Однако, как уже было сказано, я опасалась за судьбу приюта, поэтому, к своему стыду, должна признаться, что позволила прагматизму одержать верх над моралью. Короче говоря, я не должна была разлучать Элле с ее младшим братом. С каждым годом, который она проводила в приюте, обойденная другими приемными семьями, моя вина возрастала. Конечно же, она сказала тебе, что играет на музыкальных инструментах, чтобы чувствовать связь со своими родителями?
Я кивнул.
– Возможно, ты понимаешь, как это расстраивает меня, ведь я одна виновата в том, что забрала ее младшего брата – единственную живую связь с ее прошлым.
«Кто забрал брата Элле?»
Мадам Ганьон опустила глаза.
– Думаю, ты не сомневаешься, что скрупулезная особа вроде меня хранит аккуратные записи о каждом ребенке, который попадает сюда. Но в данном случае супруги, которые забрали малыша, пожелали сохранить полную анонимность, чтобы никто не мог обнаружить, что это не их родной сын. Как уже было сказано, я находилась под огромным давлением. Кроме того, эта семья согласилась сделать значительное пожертвование в пользу приюта. Однако в результате Элле не только разлучена с ее братом, но и не имеет надежды когда-либо найти его.
«Какой национальности были эти богатые люди?» – написал я в надежде получить хоть какие-то сведения, которые мог бы передать Элле в случае необходимости.
– Я правда не помню. Так или иначе, я вкратце рассказала тебе эту историю и теперь хочу кое о чем попросить. За всю свою многолетнюю работу в приюте я не знала более нежной и чистой души, чем юная Элле Лепэн.
«Почему никто не захотел удочерить Элле?»
– Многие хотели, но каждый раз передумывали. У меня есть предположение… – Мадам Ганьон покачала головой. – Лепэны, родители Элле, бежали от ужасных погромов в Восточной Европе и эмигрировали в Париж. Ты знаешь, что такое погром?
Я грустно кивнул. Мой отец часто говорил о безумии и порочности расовых предрассудков.
– Хм-мм… Не знаю, известно ли тебе, молодой человек, но ходят слухи о крепнущей в Германии партии, которая вполне может оказаться угрозой для еврейского населения. Французы знают о мощи немецкого государства после ужасов прошлого десятилетия. Думаю, поэтому потенциальные родители не хотели навлекать на себя неприятности в случае дальнейших конфликтов.
«Элле отказывали из-за ее еврейского происхождения?»
– Это предположение, но, думаю, вполне обоснованное.
«А ее брат?»
– Как я сказала, младенца увезли в другую страну и зарегистрировали под новым именем. Пожалуй, тогда в мире никто еще не думал об этом. Но в любом случае Элле по-прежнему здесь, и я чувствую огромную вину перед ней. Ты с ней знаком лишь несколько недель, но у вас, очевидно, есть много общего. Все, что воодушевляет эту девочку, облегчает мое бремя, поэтому я благодарна тебе.
Я хотел улыбнуться, но подумал, что это будет выглядеть неестественно, так как откровенность непреклонной мадам Ганьон сильно нервировала меня.
– Итак, вот моя просьба. Из разговоров с мадам Эвелин я знаю, что ты берешь уроки у мсье Ивана в Парижской консерватории. Элле мечтает поступить в консерваторию. С тех пор, как она смогла удержать в руках музыкальные инструменты, она играла на них и самостоятельно училась по книгам, которые я покупала на библиотечные пожертвования. Как ты понимаешь, у меня нет никаких музыкальных способностей, но с годами я заметила, что талант Элле начал расти и расцветать. Я часто просила ее играть для мсье Будена во время его визитов, но она всегда отказывалась, опасаясь жесткой критики. Ты молодец, что убедил ее поиграть для тебя.
«Для меня это было удовольствием».
– Ты разбираешься в музыке. Скажи, у нее есть талант?
«Да, она многообещающая ученица».
На лице мадам Ганьон отразилась тень облегчения.
– Я рада, что мой музыкальный слух не настолько плох, чтобы не распознать хорошую музыку, когда я ее слышу. Ты считаешь, что она достаточно хороша для обучения в консерватории?
«Несомненно».
– Как ты можешь догадаться, ее шансы на поступление в консерваторию ничтожны, хотя бы по причине стоимости уроков. Ей понадобится полное обучение, и, насколько я понимаю, оно обойдется дороже сапфиров. – При этой аналогии у меня перехватило дыхание. – Наверное, ты понимаешь, о чем я хочу попросить, Бо. Мне интересно, сможешь ли ты убедить мсье Ивана взять Элле в ученицы?
Я напрягся. Как, ради всего святого, я могу добиться этого? Кто будет платить? Что, если Элле узнает о моей неудаче?
«Мсье Иван учит играть только на скрипке», – написал я.
– Я уверена, что он знаком с нужными людьми, которые помогут развить таланты Элле.
«А деньги?»
– Разумеется. У меня есть банковский счет, и все эти годы я была очень экономной в своих расходах. Я накопила немалую сумму на пенсию, но теперь думаю, что для моих накоплений нет лучшего применения, чем исправление того зла, которое я причинила.
Мадам Ганьон замолчала и посмотрела мне в глаза. По ее жесткой осанке и напряженной позе я ощущал, что она нервничает в ожидании моего ответа. Угрызения совести, терзавшие ее, были искренними, и спустя много лет она решила, что я могу каким-то образом спасти ее от них.
«Я попробую, мадам Ганьон».
– Отлично! Я очень довольна. Разумеется, я не скажу Элле о твоем секретном задании. Это останется между нами, пока все не устроится.
«Спасибо».
Ее облегчение было физически ощутимым.
– Я уверяю тебя, что ты получишь награду за свои усилия. А пока что во время твоих визитов тебе разрешат уединяться вместе с Элле здесь или в одном кабинетов, а не на шумном дворе.
Я посмотрел на нее с надеждой.
– Разумеется, только ради улучшения ее музыкального мастерства. Я буду следить за вами, как ястреб с небес. – К моему удивлению, мадам Ганьон улыбнулась. – Спасибо тебе, Бо. Ты хороший мальчик.
14– Что угнетает тебя сегодня, petit monsieur? – Мсье Иван всплеснул худыми руками. – За последние несколько недель твоя техника значительно улучшилась. Твои плечи движутся свободнее, и это очень хорошо. Полагаю, что общение со сверстниками пошло тебе на пользу.
Я не стал поправлять мсье Ивана и говорить, что улучшение было связано не со сверстниками, а со сверстницей.
– Сегодня ты похож на ледяную статую, такой напряженный и расстроенный. Скажи, что тебя беспокоит?
Мсье Иван не ошибся в оценке моего душевного состояния. В течение последних нескольких уроков я стал тщательно следовать его наставлениям, улыбаться его критическим замечаниями и кивать, когда он возмущался гонорарами от некоторых оркестровых выступлений. И сегодня я решился задать ему вопрос об Элле. Я начал писать.
«Спасибо за предложение посещать “Apprentis d’Auteuil”. Это изменило мою жизнь».
Мсье Иван довольно кивнул.
– Не стоит благодарить меня, юный Бо. – Он постучал по виску указательным пальцем. – Я знаю, как выявлять лучшие качества моих учеников, независимо от возраста. Но ты не ответил на мой вопрос. Почему ты сегодня такой напряженный? Все ли хорошо в семье Ландовски?
«Да, спасибо. Мсье Ландовски и члены его семьи пребывают в хорошем настроении. Но я хочу задать вам личный вопрос».
– Ну, значит, мне надо подготовиться к испытанию. Не смущайся, молодой человек. Помни о том, что эмигранты должны помогать друг другу. Вот например… – Мсье Иван откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. – Возможно, этот вопрос… имеет анатомический характер? Тебе стыдно спросить об этом мсье Ландовски или мадам Эвелин? Не бойся: я хорошо помню тот период, когда был мальчиком и удивлялся определенным телесным переменам…
Я лихорадочно замахал руками и затряс головой. Это была не та тема, которую я собирался обсудить с мсье Иваном или с кем-либо еще:
«Речь идет о ребенке из приюта и о его музыкальном таланте», – поспешно написал я.
– О, тогда понятно. Я свяжусь с Буденом и попрошу его послушать этого мальчика. Потом он даст критический разбор и подскажет, как можно повысить шансы на поступление в консерваторию. Хорошо? Видишь, некоторые проблемы нетрудно решить, так что тебе не стоило нервничать. А теперь давай снова займемся Чайковским.
«Это девочка», – дополнил я свою предыдущую запись.
– Прошу прощения, я упустил из виду пол ребенка. Просто я думал, что ты в основном проводишь время с другими мальчиками, играешь в шарики и так далее. Но не переживай, Буден послушает ее и даст оценку.
«Я хотел узнать о возможности брать ей уроки в консерватории, как это было устроено для меня».
После долгой паузы, когда мсье Иван недоуменно смотрел на меня, он рассмеялся.
– Боже мой! Кажется, я совершил ошибку, когда отправил тебя в «Apprentis d’Auteuil». Теперь ты постараешься протащить в консерваторию любого мало-мальски разумного ребенка. – Мсье Иван хлопнул ладонями по коленям, продолжая смеяться. – Полагаю, ты понимаешь, что это невозможно. Консерватория предназначена для студентов, для очень углубленного изучения музыки. Не надо путать ее с детской музыкальной школой. Кроме того, есть много частных педагогов, готовых тратить время на детское пиликанье и дудение. Я уверен, что смогу навести справки об учителях и найти того, кто пожелает обучать твою юную подругу. Хорошо? А теперь перейдем к Чайковскому.
«Она несколько лет училась самостоятельно. Я прослушал ее исполнение, она чрезвычайно талантлива. Думаю, ей подобает только учеба в консерватории».
– Ага, понятно. Это все меняет. – Мсье Иван сложил ладони рупором и изобразил крики глашатая: – Юный пророк объявил, что его подруге поможет только учеба в консерватории! Отменяйте ваши расписания и готовьте педагогов! Наш маленький скаут обнаружил следующего великого гения!
Я опустил голову.
– Юный Бо, я не сомневаюсь в твоих добрых намерениях, как и в твоем желании помочь подруге. Но не забывай, что ты десятилетний мальчик и приходишь сюда по особой договоренности, потому что у мсье Ландовски есть связи с мсье Рахманиновым. Увы, но без таких связей я никогда бы не согласился устроить прослушивание для тебя. По правде говоря, сначала я сделал это из вежливости, не более того. Мы продолжаем обучение лишь благодаря твоим необыкновенным способностям. В тебе есть… некая зрелость, что крайне необычно для твоего возраста. В консерватории не учат детей, и этим все сказано. А теперь, пожалуйста, приступим к Чайковскому.
«Она уникальна, потому что сама научилась играть по книгам. Я не могу представить такой мощный разум…»
Мсье Иван вырвал листок и бросил его на пол.
– Довольно! Чайковский, мальчик!
Я дрожащими руками пристроил скрипку в рабочее положение, потом взял смычок и заиграл. Прежде, чем я успел осознать это, по моему лицу заструились слезы, мое дыхание стало прерывистым, и я наделал массу ошибок. Мсье Иван обхватил голову руками.
– Стой, Бо, прекрати! Я извиняюсь, моя реакция была чрезмерной. Прости…
Его извинения были бесполезны; шлюзы открылись, и я ничего не мог с этим поделать. Я уже очень давно не плакал с такой силой. Темными ночами во время моего странствия мое тело иногда содрогалось от спазмов плача, но я был слишком обезвожен, чтобы проливать настоящие слезы. Мсье Иван пошарил в ящиках стола и достал носовой платок.
– Возьми, он чистый, – сказал он, протягивая мне платок. – Еще раз, молодой человек, мне не следовало кричать на тебя. Ты просто хотел кому-то помочь, а такие вещи нуждаются в поощрении.
Он утешающе положил руку мне на плечо, но это не помогло. Я плакал и плакал. Раздраженный окрик мсье Ивана стал катализатором, высвободившим то, что было накоплено за много месяцев. Я плакал по своему отцу, по своей матери и по тому мальчику, которого я считал своим братом и который теперь желал мне смерти. Я оплакивал множество жизней, которые мог бы прожить, если бы меня не принудили к бегству. Я плакал, когда думал о щедрости мсье Ландовски и о желании мсье Ивана учить меня. Я плакал из-за усталости, горя, отчаяния, благодарности, но прежде всего я плакал из-за любви. Я плакал, потому что не мог дать Элле ту возможность, которую она заслуживала. Должно быть, я рыдал целых пятнадцать минут, а мсье Иван стоически держал руку у меня на плече и повторял: «Ну-ну, будет тебе». Бедняга. Я сомневался, что он мог предвидеть такую драматическую реакцию, когда повысил голос на меня. Вряд ли он сталкивался с такими проблемами, когда учил студентов.
В конце концов мой резервуар слез опустел, и я хватал ртом воздух, делая глубокие, судорожные вдохи.
– Бог ты мой. Должен сказать, хотя я был не прав, твоя реакция оказалась крайне неожиданной. Теперь все в порядке? – Я кивнул, утирая нос рукавом. – Тогда я рад. Не стоит и говорить, что сегодняшний урок лучше закончить.
«Извините, мсье», – написал я.
– Не нужно извиняться, petit monsieur. Мне ясно, что здесь скрыто еще многое другое. Поможет ли тебе дружеское ухо или, вернее, пара дружеских глаз? Ведь мы оба эмигранты, и, даже если мы кричим друг на друга, между нами существуют вечные узы.
Я начал писать и снова остановился. Вероятно, подействовала внутренняя химия, вызвавшая слезы, но теперь я ощущал невероятное спокойствие. Что плохого может случиться, если я заговорю? Вероятно, это приведет к моей смерти, но тогда я хотя бы окажусь в загробном мире вместе с мамой, а может быть, и с отцом. Все казалось абсолютно и прекрасно бессмысленным. Желание облегчить душу наконец одержало верх над здравомыслием, поэтому я совершил немыслимое. Я открыл рот и заговорил.
– Если вы пожелаете выслушать меня, мсье, то я расскажу свою историю, – сказал я на языке моей матери.
Мсье Иван пристально посмотрел на меня.
– Я дал тебе слово…
– Я живу недолго, но история длинная. Едва ли я смогу рассказать ее целиком за десять минут, оставшиеся до конца урока.
– Нет, конечно же, нет. Так давай я освобожу место в своем рабочем графике. Это очень важно. Как насчет твоей мадам Эвелин? Я оставлю ей записку в приемной, что собираюсь продлить сегодняшний урок для подготовки к концерту.
Он так резко вскочил с места, что едва не опрокинул свой стул.
– Спасибо, мсье Иван.
Пользоваться голосом было все равно, что напрягать мышцу, утратившую тонус после долгого постельного режима. Это казалось странным, как будто мой голос принадлежал кому-то другому. Разумеется, время от времени я шепотом говорил сам с собой, напоминая себе, что еще не утратил дар речи, а несколько недель назад вслух поблагодарил мсье Ландовски. Но слова, с которыми я обратился к мсье Ивану, были моей самой длинной речью за последний год.








