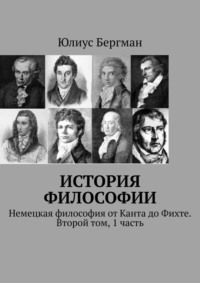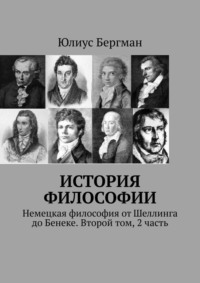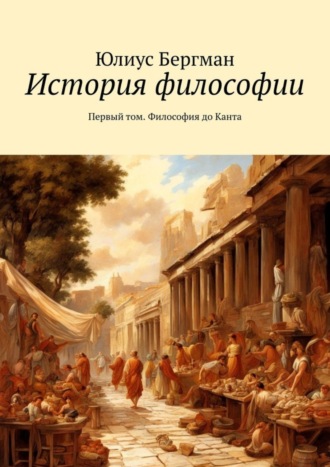
Полная версия
История философии. Первый том. Философия до Канта
Что касается взглядов пифагорейцев на внешнее устройство Вселенной, то основные положения сводятся к следующему. Упорядоченный мир имеет форму шара, который окружен дышащей материей, простирающейся в бесконечность. Центр его и внешняя окружность образованы огнем. Из огня в центре началось формирование мира; он – страж и крепость Зевса, мать богов, Гестия вселенной, алтарь, контекст и мера природы. Десять небесных тел, или сфер, движутся вокруг него и своим вращением создают гармонию сфер, которую мы не слышим из-за привыкания, подобно тому, как обитатели кузницы перестают слышать стук молотов. Ближайшую к центру орбиты сферу образует совокупность неподвижных звезд, за ней следуют планеты Сатурн, Юпитер, Марс, Венера, Меркурий, затем Солнце, Луна, Земля и, наконец, мировое тело, которое пифагорейцы называли противоположной Землей. Последняя была придумана им для того, чтобы можно было достичь священного числа десять. Она ускользает от нашего восприятия, поскольку находится между землей и центральным огнем, а земля всегда повернута к центральному огню своей необитаемой стороной. Солнце и Луна являются стеклянными телами и отбрасывают лучи, которые они получают от центрального огня, в сторону Земли.
О взглядах пифагорейцев на природу души известно немного. В этом отношении только учение о переселении душ может быть отнесено к числу тех, которых их школа придерживалась с самого начала. Филолай утверждает, что душа входит в тело по числу и бессмертному и бесплотному соединению. Далее он заявляет о своем согласии со свидетельством древних богословов и провидцев о том, что душа как бы погребена в теле в наказание за прежние долги и после смерти тела становится причастной к высшей бесплотной жизни, но, с другой стороны, подчеркивает важность тела как органа, через который душа обретает восприятия. В «Федоне» Платон заставляет ученика Филолая высказать мнение, что душа есть гармония своего тела, из чего делает вывод, что она имеет не более самостоятельное существование, чем гармония тела, и поэтому погибает вместе с телом. Аристотель упоминает тот же взгляд на природу души, но не называя его сторонников. Однако, по крайней мере, этот вывод нельзя считать пифагорейским из-за его противоречия с верой в переселение душ.
Основатель элеатской школы, Ксенофан, родился около 570 года в Колофоне в Ионии и, следовательно, был современником Пифагора. После долгих путешествий по Греции в качестве рапсода, декламировавшего свои эпические и дидактические поэмы, он поселился в Элее, ионийской колонии в Нижней Италии, будучи уже пожилым человеком. Считается, что он дожил до 92 лет. Философские идеи Ксенофана были впервые развиты в учение с ярко выраженным индивидуальным характером его учеником Парменидом из Элеи, который, как говорят, родился около 540 года, по другим подсчетам – около 520. Единственные другие сведения о жизни этого человека – это то, что в юности он общался с пифагорейцами и что он дал законы своему родному городу. Третьим главой элеатской школы стал ученик Парененида Зенон, также родом из Элеи, на 25 лет моложе своего учителя. Еще одним последователем Парененида был государственный деятель и полководец Мелисс из Самоса, младший современник Зенона. О других представителях элеатской школы ничего не известно. – До нас дошли фрагменты дидактической поэмы Ксенофана и Парменида, а также сочинение Мелисса, в то время как от сочинения Зенона ничего не сохранилось.
Если исследования древних космологов и пифагорейцев основывались на представлении о том, что единая сущность «произвела» из себя множественность и разнообразие вещей, что она заключает в себе все вещи и, хотя в одних вещах преобразуется одним образом, а в других – другим, во всех вещах является одной и той же общей субстанцией, то элеаты придерживались представления о едином целом бытия, которое остается тождественным самому себе, Но, размышляя над ней и делая ее предметом своей мысли, они пришли к убеждению, что множественность вещей, отделенных друг от друга в пространстве, несовместима с единством бытия и что всякое превращение первоначальной природы несовместимо с ее тождеством, и отсюда заключили, что множественность и изменение – это только видимость, которой наши обманчивые чувства окружают то, что действительно есть. Наряду с множественностью они объявили телесность и пространственность лишь видимостью и приписали единому бытию только духовную природу. Бытие предполагается только в мышлении.
Следует, однако, добавить, что, определяя природу и сущность сущего в этом смысле, они не считали, что говорят о чем-то ином, чем мир, который является предметом чувственного восприятия. Они считали, что мир, который мы воспринимаем с помощью органов чувств, есть реальный мир и только не так устроен, как он представляется нам в восприятии, что органы чувств добавляют к тому, что есть, то, чего на самом деле нет, и что к этому добавлению, которое разум, ищущий то, что действительно есть, опять-таки исключает, относится бытие вещей отдельно друг от друга и изменение. Если, таким образом, под материей понимать субстанцию чувственного мира, что бы еще ни утверждалось и ни отрицалось в отношении нее, то элеаты соглашались с древними ионийцами и пифагорейцами» в том, что нет ничего, кроме материи, но в отличие от них они мыслили материю как непространственное бытие, исключающее всякую множественность и изменение, которое постигается только чувством. С другой стороны, оправдано и выражение, что они отрицали материальность Единого Существа и объявляли его просто духовным существом, переходя таким образом от гилозоизма к спиритуализму.
По крайней мере, Ксенофан, похоже, не утверждал четко и решительно несовместимость раздельности и изменчивости вещей с единством и неизменностью всего сущего. Вероятно, он лишь подчеркнул необходимость мысли о том, что, несмотря на пространственную разделенность, вещи внутренне едины и что, несмотря на все изменения в мире, Единое Целое остается тождественным самому себе. «Куда бы я ни обращал свой ум, говорит силлограф Тимон, все растворялось в одном и том же; все, всегда бывшее, стояло там, полностью сведенное в единую подобную природу». Ксенофан, первым объявивший все Единым, по словам Аристотеля, не сказал точно, имеется ли в виду Единство в смысле субстанции или понятийной сущности, но, глядя на Вселенную, он сказал, что Единое – это Бог. Если Ксенофану не хватало более точного определения отношения Единого к форме, в которой мир предстает перед органами чувств, то для него тем более важно было провозгласить убеждение, что Единое должно мыслиться как Бог и, наоборот, что Бог должен мыслиться как Единое, которые якобы рождаются, ходят в человеческом облике, исполнены человеческих страстей, подвержены человеческим занятиям и страдают от человеческих судеб, которым Гомер и Гесиод даже приписывают все, что постыдно и предосудительно для человека, – воровство, прелюбодеяние, обман.
«Люди, – говорит он в своей поэме, – думают, что боги похожи на них одеждой, голосом и формой, но даже волы или львы, если бы они умели рисовать или лепить, как люди, представляли бы богов по своему образу и подобию. Один – Бог, величайший из богов и людей, ни внешностью, ни мыслями не похожий на смертных. Ему подобает всегда оставаться на одном месте, не двигаться, поворачиваться то туда, то сюда. Он не распознает, подобно людям, одним способом одну часть, другим – другую, но видит полностью, слышит полностью, думает полностью. Без всяких усилий, волей духа он овладевает всем». Ксенофан также посвятил свои мысли научным фрагментам, но то немногое, что удалось обнаружить в них, не представляет ничего особенно примечательного.
Если уже Ксенофан объявил множественность и изменения, которые демонстрируют нам органы чувств, лишь явлением, то, во всяком случае, только Парменид попытался строго доказать это утверждение. Насколько можно судить по фрагментам его поэмы, он все время пользовался косвенным методом, а точнее, тем методом косвенного доказательства, который состоит в том, чтобы показать, что противоречие возникает из предположения, противоположного доказываемому, причем без помощи других предположений, кроме тех, противоположность которых также содержала бы противоречие, т.е. путем простой дедукции. Во главе своих замечаний он ставит во главу своих замечаний положение: «Бытие есть, а небытия нет (есть только бытие, а не небытие, только реальность или полнота, а не абсолютная пустота)». «Это путь уверенности, говорит он, путь, на котором истина является спутником, – думать, что бытие есть, а небытия нет, тогда как это путь, уводящий от всякой уверенности, – думать, что бытия нет, а небытие должно быть, ибо ты не хочешь ни признать, ни назвать небытие, поскольку бытие-мыслимое и бытие-может-быть – одно и то же». Из сказанного следует, как он думает, что сущее имгевордеу и ничто из него не будет только в будущем, ибо оно должно было бы стать или увеличиться либо из несуществующего, либо из существующего, но первого не может быть, так как несуществующее должно было бы быть, чтобы из него стало сущее, а второго нет, так как сущее не может стать чем-то помимо него. Аналогично этому следует, что и сущее нетленно, и ничто из него уже не перестало быть. То, что экзистенция не возникла, нетленна и не может ни увеличиваться, ни уменьшаться, следует также из того, что еще не существующая экзистенция и точно так же уже не существующая экзистенция были бы несуществующими экзистенциями.
Невозможность разделения бытия на множество вещей Парменид также сводит к невозможности небытия, обосновывая это тем, что не может быть ничего отличного от бытия, что позволило бы отделить части друг от друга, так что небытие привело бы к разделению и, следовательно, должно было бы быть. Если же к утверждению о неделимости сущего он добавит еще и другое, а именно, что оно неподвижно, оставаясь для себя в одном и том же состоянии, то он докажет это тем, что движение сущего может состоять только в изменении положения его частей по отношению друг к другу, т.е. будет иметь в качестве своей предпосылки разделение.
В большинстве изложений учения Парменида предполагается, что он приписывает бытию физичность и пространственную протяженность. Согласно приведенным выражениям, он действительно это делал. Отрицая разделение бытия на множество вещей и его движение, он описывает его как материю, которая заполняет пространство без пробелов, которая совершенно одинакова во всех местах и никогда не меняет занимаемое ею пространство на другое. Возникает, однако, вопрос, следует ли понимать эти выражения в собственном смысле слова, ибо можно с самого начала считать себя вправе сомневаться в этом, если учесть, что речь идет о произведении того времени, когда еще не был выработан язык для передачи исследований, отвлеченных от чувственно-яркого, и тем более о поэме, максимально использующей традиционный эпический способ изображения и, по всей вероятности, изначально предназначавшейся для публичного исполнения. Итак, если дошедшие до нас формулировки изречений Парменида не позволяют отказаться от предположения, что он, наряду с пространственным делением и движением бытия, считал и саму пространственность иллюзией чувств, то в пользу этого говорят следующие доводы. Во-первых, утверждение, что пространство и заполняющая его материя действительно существуют, а существование тел, отделенных друг от друга внутри заполняющей пространство материи какими-то различиями, является простой иллюзией, было бы слишком глупым для разумного человека, тем более такого выдающегося мыслителя, каким, несомненно, был Парменид, чтобы поверить, что он всерьез выдвинул его.
Эта причина еще более усиливается тем, что Парменид сравнивает сущее с округлой сферой, равномерно простирающейся от центра во все стороны; ведь если допустить, что он представлял сущее протяженным, то следует предположить, что он не просто намеревался сравнить его со сферой, а действительно приписывал ему сферическую форму. Таким образом, поскольку, по его мнению, пустое пространство существовать не может, он учил, что не существует ничего, кроме сферы определенного размера, совершенно неразличимой самой по себе, границы которой в то же время являются границами пространства, – учение, которое, хотя и отличалось бы по понятности от утверждения пифагорейцев, воспринятого буквально, что не существует ничего, кроме чисел и что все вещи состоят из чисел, вряд ли меньше, чем последнее, заставляло бы усомниться в здравом уме его автора. Во-вторых, даже в чувственно-описательном изложении поэмы Парменида безошибочно прослеживается мысль о том, что сущее не просто обладает единством, как предмет, к единству которого наблюдателя побуждает беспрепятственное соединение его частей, но что единство присуще ему как реальное качество и что это единство исключает составное существование непрерывно соединенных частей. Аристотель также предполагает, что Парменид имел в виду именно это внутреннее, реальное единство, когда говорит, что Парменид, по-видимому, имел в виду единство сущего, соответствующего понятию, тогда как Ксенофан не пояснил, имел ли он в виду сущее, единое по понятию или единое по сущности. В качестве более определенного доказательства того, что Парменид отрицал пространственность бытия, можно привести из фрагментов его поэмы слова, которые следуют за отрицанием делимости бытия: «Оком ума видеть далекое как настоящее» и сравнение сущего со сферой; ведь если сущее сравнимо со сферой, то само оно не является сферой, но, как уже отмечалось, Парменид должен был считать его таковым, если приписывал ему протяженность. В-третьих, ученик Парменида Зенон в трактате, который был призван лишь защитить учение мастера и утвердить его более прочно, выдвинул доказательство, которое будет приведено ниже, что сущее не находится в пространстве. Аналогичным образом Мелисс утверждает, что, поскольку сущее едино, оно не может быть телесным, а поскольку он, как и Парменид, утверждал, что пустое пространство было бы небытием, он должен был также отрицать пространственность сущего наряду с телесностью, хотя из того, что он приписывал сущему бесконечность, Аристотель делает вывод, что, в отличие от Парменида, он понимал единство сущего как единство субстанции.
Если же бытие не телесно и не пространственно, то возникает вопрос, в чем состоит конституция его бытия. На него Парменид, отличаясь от своего учителя в выражении, но соглашаясь с ним по существу, дает ответ: в мышлении, а точнее, поскольку объект мышления может составлять только бытие, в мышлении о самом себе. О том, что мышление принадлежит бытию, он должен был заключить из совершенства и отсутствия совершенства, которые он ему приписывает и которые он должен был приписать ему в соответствии с положением о том, что небытия нет, поскольку ему казалось само собой разумеющимся, что мышление есть нечто чисто положительное, нечто, природа чего ни полностью, ни частично не состоит в пустоте, в отсутствии другого. Но если, как он мог бы заключить далее, мышление принадлежит существующему, то мышление и бытие – одно и то же, ибо в противном случае существующее должно было бы состоять из мышления и чего-то иного по своей природе или поведению, а предположение об этом исключает его единство.
Утверждение, что не существует ничего, кроме неразвитого и нетленного, единого и неизменного мышления или сознания, которое никак не допускает множественности и изменения в себе и имеет себя в качестве объекта, очевидно, прямо противоречит фактам. Конечно, не факт, что множественность и изменение, воспринимаемые нашими органами чувств, имеют реальное существование, но тот, кто утверждает, что все, что мы воспринимаем вне себя, есть лишь видимость, должен признать, что это действительно воспринимается самим собой, что собственное «я» реально существует и является предметом множественности восприятий, находящихся в непрерывном изменении. Но Пармениду, конечно, не приходило в голову отрицать ни своего собственного бытия, ни множественности и сменяемости своих восприятий, ни даже бытие других воспринимающих существ. Очевидно, что в своих доказательствах он имеет в виду не множественность и изменения вообще, а только пространственное раздельное бытие вещей, движение и изменение воспринимаемых качеств. Однако, с другой стороны, не следует говорить, что он исключал множественность и изменения, которые мы встречаем в самих себе, и что он имел в виду единое самомыслящее существо, содержащее в себе множество непространственных существ, которым органы чувств отражают мир пространственных вещей. Его мысли были обращены исключительно к миру чувств; его занимал лишь вопрос о том, как в связи с этим следует понимать реально существующее; как и его предшественники, он еще не включал в круг своих рассуждений то, что мы воспринимаем в себе, и его отношение к существующему.
Убежденность в том, что форма, в которой бытие предстает перед органами чувств, не является истинной, не помешала Пармениду более тщательно исследовать ее в манере своих предшественников. Установив в первой части поэмы истинную природу бытия, как она познается разумом, во второй он показывает, как логически должен быть понят мир, если встать на точку зрения обманчивого мнения, смешивающего бытие и небытие. В основе его аргументации лежит мысль о том, что необходимо предположить две основные составляющие мира, представляющие собой противоположность бытия и небытия, которые божество, управляющее всем из центра, смешало через Эроса, первого из задуманных им богов: тонкий, бесплотный огонь и плотную, тяжелую ночь.
Преемники Парменида, Зенон и Мелисс, насколько можно судить по источникам, сохранили его учение о бытии в неизменном виде. Однако, судя по формулировкам, последний отличается от своего учителя в одном пункте. А именно, он доказывает, что бытие бесконечно или неограниченно (απειρον [апэйрон]), тогда как Парменид говорит о неподвижности бытия в узах предела. Однако этим выражением Парменид, вероятно, хотел сказать, что единое бытие крепко держится в самом себе, так что не может рассеяться на множество вещей, тогда как бесконечность, о которой говорит Мелисс, означает неисчерпаемую полноту бытия, не имеющую ни начала, ни конца, в которой оно соприкасается с небытием.
Следуя учению Парменида, Зенон и Мелисс ставят перед собой задачу более подробно и точно объяснить и защитить его. Мелисс, по-видимому, не выдвинул ничего особенно важного. Зенон же, напротив, прекрасно справился с задачей.
С другой стороны, Зенон прекрасно развил косвенный метод доказательства своего учителя и тем самым с большим мастерством раскрыл трудности, заложенные в понятиях пространства и движения. Наиболее замечательными доказательствами Зенона являются, в свободном воспроизведении, следующие. Во-первых, против предположения, что сущее много, он показывает, что вещь, состоящая из многих, должна быть понята, с одной стороны, как не имеющая величины, а с другой – как бесконечно великая, в зависимости от того, пытаются ли ее составить из элементов или разложить на элементы. Оно должно быть без величины, так как каждое из многих должно быть простым, следовательно, неделимым и, следовательно, без величины, а из такой вещи, которая сама не имеет величины, никакая величина не может быть составлена. Оно должно было бы быть бесконечно большим, так как, будучи составным, оно должно было бы иметь размер вообще, каждая часть должна была бы снова иметь размер и таким образом сама состоять из частей определенного размера и так далее до бесконечности; целое должно было бы, следовательно, состоять из бесконечного числа размеров и, следовательно, быть бесконечно большим. Очевидно, что это доказательство основано на предположении, что сущее, если бы оно было составным, должно было бы быть пространственным и что, наоборот, пространственное было бы составным; таким образом, одновременно с предположением, что существует многое, опровергается предположение, что оно пространственно. Второе доказательство прямо противоположно последнему. Если бы, говорит оно, сущее находилось в пространстве, то принадлежащее ему пространство также должно было бы находиться в пространстве, а также пространство пространства и т. д. Третье и четвертое доказательства имеют своим объектом невозможность движения. Согласно первому, быстроногий Ахиллес не может догнать медлительную черепаху, как это должно быть согласно понятию движения. Ведь пока Ахилл преодолевает расстояние, отделяющее его от черепахи в начале бега, черепаха тоже продвигается немного дальше; по той же причине, когда Ахилл достигает конца этого расстояния, он снова не достигает черепахи, и так далее. Другой показывает, что летящая стрела находится в покое, т.е. в каждый неделимый момент времени стрела не меняет своего положения, поэтому она находится в покое в каждый момент времени, следовательно, всегда.
III. Младшие космологи
Второе из двух направлений развития, возникших из догадок и предположений древних ионийцев о происхождении вещей, ведущее от гилозоизма к дуализму (см. выше, с. 15), начинается с современника Парменида, эфемерного Гераклита. Он принадлежал к знатному роду. О его характере мы узнаем, что он был горд и мрачен, яростный противник демократии, презирал суждения толпы и традиционные представления о богах. Он пренебрежительно относился к наиболее выдающимся поэтам и ученым, таким как Пифагор и Ксенофан, которых он приводил в пример того, что много знаний не дают мудрости, и к Гомеру, который, по его словам, заслуживал изгнания из числа «состязающихся». От написанной им книги сохранилось несколько небольших фрагментов, за написание которых он получил у древних прозвище Темный.
Учение Гераклита можно разделить на две части. Одна из них настолько тесно связана с гилозоизмом старших космологов, что, если бы мы только знали о ней, не было бы причин отделять ее автора от него. Другая, возвышаясь над чувственным восприятием, обращается к общему понятию бытия, чтобы определить его содержание, правда, не в манере Парененида и Зенона, путем простого мышления, а с помощью чувственного опыта. Именно в результате этого размышления над понятием бытия, как будет показано далее более подробно, Гераклит положил начало переходу от гилозоизма к дуализму.
Гилозоизм Гераклита связан с гилозоизмом Анаксимена. Если последний объявил воздух первоначальной формой вещества, из которого созданы все вещи, то Гераклит объявил сухим дыханием или паром тепло, представляемое как материя, которое он назвал огнем. «Мир, – говорил он, – никогда не был сотворен ни богами, ни людьми, но всегда был и будет живым огнем». «Все обменивается на огонь, а огонь – на все, подобно тому как товары обмениваются на золото, а золото – на товары». Вода создается из огня путем угасания, а земля – из воды, земля снова становится водой путем сгорания, а вода – огнем. Когда огонь превращается в воду, а вода в землю, происходит конденсация, а когда наоборот – иссушение. Однако холод и тепло не являются, как учил Анаксимандр, следствиями конденсации и разрежения, а имеют обратную зависимость. Превращение огня в воду и землю – это путь вниз, а другой путь – вверх. Оба пути превращения идут бок о бок без перерыва, один происходит в одном месте, другой – в другом, и каждая часть общей субстанции движется то вверх, то вниз, но так, что два великих мировых периода следуют друг за другом в непрерывном чередовании, один, в котором мир многих вещей возникает из чистого первородного огня, и другой, в котором мир в целом снова сливается с огнем.
Первозданный огонь – это Зевс, живое божество. Души животных и людей принадлежат ему как части или оттоки. Гераклит, как и более поздние стоики, вероятно, отделил часть первозданного огня от процесса превращения и приписал этой части значение божества, управляющего миром. О душах он, конечно, учил, что огонь сохранил в них свою первоначальную природу, хотя и не в совершенной чистоте, но так, что принял в одних больше, в других меньше природы воды. Сухая душа, по его словам, самая мудрая и лучшая. Пьяницу сбивает с пути безбородый мальчик, потому что у него душа влажная.
С таким взглядом на мир и вещи согласуется и то, что Гераклит, оставив в стороне вместе с элеатами те качества, которые можно представить себе только с помощью чувственного восприятия, и сосредоточившись на самом бытии, в противовес им учил, что в мире никогда и нигде нет ничего неизменного, что все находится в состоянии непрерывного изменения. Быть – значит изменяться, и поскольку единое бытие постоянно преобразуется, оно разворачивается во множественность форм, так что к бытию целого относится не только единое бытие, но и множественность. Невозможно, по его словам, дважды войти в один и тот же поток (ведь поток в каждый момент времени разный). Все течет, но ничто не фиксировано; все продолжается, ничто не остается. Органы чувств, которым многие вещи представляются неподвижными и устойчивыми, он считал недостаточными для поиска истины; одни только глаз и ухо – плохие вещи. Изменение, по Гераклиту, основано на соотношении противоположностей; война, объявлял он, – отец и царь всего сущего.