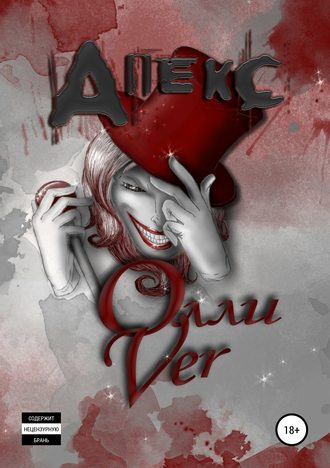 полная версия
полная версияАпекс
– Давай уже на чистоту?
– Да куда уж чище-то?
– Хочешь сбросить меня?
Он пожимает плечами так, словно мы все еще обсуждаем полотенца:
– Это не я хочу. Судя по всему, этого хочешь ты.
– Не хочу.
– Эт хорошо…
– А вот этот треп про потерю коллеги к чему вообще?
– Этот треп не про потерю кого бы то ни было, а про тупое упрямство, – он резко срывается с места и шагает ко мне, и теперь в его походке нет тяжести, нет лени. – Этот треп про то, что у тебя подошва может разлететься прямо на ходу, а ты волнуешься о том, как выглядит твоя нога, – он мгновенно ускоряется, хватает меня за грудки. – Я сто раз тебе говорил – обуйся!
– Они тяжелые!
– Не тяжелее твоей задницы!
– Тебе легко говорить! – я пытаюсь вырваться. – В тебе сколько? Семьдесят? Семьдесят пять?
Тут он выпускает из своих рук мою одежду, резко наклоняется и хватает меня за правую ногу, легко отрывая её от земли. Я едва сохраняю равновесие, нелепо размахиваю руками, цепляюсь за него, впиваясь пальцами в его спину, в то время как его пальцы скользят в дыру в моей кроссовке. А в следующее мгновение мою ступню резко и больно тянет вниз, словно по моей ноге проехал грузовик – жуткий треск оглушает меня, разлетаясь в разные стороны, отражаясь от стен, пола и потолка, а секундой позже моей ноге становится прохладно и свободно. Эта сволочь разгибается и рычит мне в лицо:
– Если такое произойдет на улице… – он машет перед моим лицом оторванной подошвой моей кроссовки, я щурю глаза, хмурю брови и уворачиваюсь, – … первый же Красный, который добежит до тебя, взорвет твои кишки, как фейерверк! – он отбрасывает в сторону кусок белой пены, я делаю шаг назад, чувствую правой ногой ледяной бетонный пол. – Когда будешь лежать и смотреть, как летит в небо твоё нутро, помни, что ты пожертвовала им ради красивой, ЛЕГКОЙ обуви!
Он толкает меня, я делаю несколько шагов назад и тут же взрываюсь потоком слёз и истерики – я раскрываю рот, как рыба, выброшенная на берег и беззвучно рыдаю, закрывая руками лицо, и пячусь назад под градом его слов:
– Какого хрена ты рыдаешь? Тебе ли рыдать, а? Вот когда увидишь это своими собственными глазами, вот тогда и рыдать будешь! – он идет на меня и ярость шрапнелью летит из его уст. – Думаешь, большое удовольствие смотреть на твои потроха? Пошла на хер отсюда, и чтоб я тебя больше не видел в этом дерьме! Еще раз увижу – отрублю стопы вместе с ними!
Я разворачиваюсь и бегу со всех ног. Не разбирая пути, не глядя, через три ступеньки, словно сам черт за мной несется, я лечу вверх по лестнице, забираясь все выше и выше. Как будто там другая реальность, словно там наверху чище и светлее от того, что ближе к солнцу. Там не ближе к солнцу, там дальше от сборища подвальных крыс. Я останавливаюсь не потому что устала, а потому, что сама себе приказала – стоп. Бегать я привыкла, потому легко могу добраться до крыши, а там, чего доброго, сигануть с неё, даже не заметив. Стой! Стой. Остановись… Шелест дыхания, грохот сердца, истерика в кончиках пальцев. Тихо…тихо… Дрожь, дыхание, стук. Вот сука! Вот мразь! Гребаная тварь! Лестница, другая, третья. Самого бы тебя к Красным. Уж я бы на твои кишки полюбовалась бы, скотина. Оглядываю лестничный пролет, чтобы понять, куда меня занесло. Седьмой этаж. Твою мать, даже не заметила. На дрожащих ногах – обратно вниз – одна нога ступает на теплое и пружинистое, другая – на холодное и твердое. Крою матом и тут же уговариваю себя, что один мат за другим – очень неэффективный способ успокоится. Разбавляю маты нормальными словами, но всякое словесное дерьмо, вроде «ублюдка», «поддонка» и «мудака» льется из меня вне очереди. Какой этаж? Третий. Иду к двери, которая ведет к служебному выходу на этаж, и толкаю её.
Огромный длинный коридор открывается предо мной, распускаясь длинной широкой улицей, расходясь в стороны короткими веточками стеклянных витрин – большие и маленькие альвеолы, где за стеклами – куча теперь уже никому не нужного барахла. Когда Апекс стер с лица Земли жизнь в её привычном понимании, когда все рухнуло и разлетелось на куски, когда на улицы хлынули Красные, те из рода людского, кто был быстрее, сообразительнее и сумел выжить, попрятались там, куда успели добежать. Я в числе восьми сотен других крыс оказалась в огромном торговом центре. Делаю шаг вперед, еще один и еще. Тихо. Склеп. Памятник былому. Правая нога начала вопить о холоде – отпускает потихонечку. Я ускоряюсь и иду вперед, оглядываясь по сторонам – тут не опасно, здание забаррикадировано, но я все еще на взводе, а потому все мое тело – ржавая, тугая пружина, которая никак не может вернуться в исходное положение и расслабить витки. Ублюдок! Вывел меня, довел до слёз. Ведь видел же, что на честном слове держусь… Длинный коридор мелькает высокими стеклами витрин по обе стороны коридора. А я-то хороша – не зря Медный меня дурой называет. «Дура дурой» – конец цитаты. Длинный коридор упирается в стену и разделяется в двух противоположных направлениях. Я поворачиваю направо и сбавляю темп. Торопиться уже некуда – обосралась по полной, теперь-то куда спешить? Слева – глухая стена, а по правую руку – отдел с декоративной косметикой (туда никто ни разу не заходил), дальше – отдел домашнего текстиля (там пустые полки, а на полу можно разглядеть старые и совсем свежие следы от пыльных ботинок), следом – отдел нижнего белья (здесь стало пусто почти сразу же, и только один – единственный манекен все еще одет в вызывающий, нежно-розовый комплект откровенно порнографического контента), и, наконец, отдел, где исполинская вывеска и высокие стеклянные витрины, где огромные растяжки, плакаты и стены оклеены фотообоями с людьми, застывшими в прыжке, бросающими в кольцо баскетбольный мяч или запечатленными в момент отрыва ноги от беговой дорожки – замороженные во времени, застывшие в неподвижности подтянутые тела, покрытые капельками пота, сконцентрированные лица, сжатые в кулаки ладони, оскаленные клыки. Оглядываюсь и смотрю на этих людей, и впервые мне становится интересно, вот они – те, кто позировали для этих фото – выжили? Привычным движением огибаю центральную стойку, где висят зимние пуховики, и шагаю к стенду с обувью, останавливаюсь напротив и прицельно смотрю на четыре модели, которые присмотрела уже давно, тяну руку к одной из пар и… останавливаюсь. Вот сука! Одергиваю руку, словно мне по пальцам линейкой врезали. С тоской оглядываю огромный стенд – яркие, красивые, легкие торпеды с тонкими дышащими стельками, гнущимся верхом и обтекаемыми формами подошвы из пены. Теперь это и не для меня тоже. Вот ублюдок, мать его! Рычу и разуваюсь – снимаю свои кроссы, в сердцах швыряю об пол то, что осталось от правой кроссовки и забрасываю в дальний угол уцелевшую левую. Черт бы тебя побрал!
Разворачиваюсь и выхожу из отдела босиком.
То, что мне нужно, находится этажом выше, и я иду обратной дорогой, повернув налево на первой же развилке. Еще одна причина, почему он настаивает на берцах, это их месторасположение – единственный отдел, где когда-то продавалась спецодежда, а теперь хранится весь наш вещевой запас, в том числе и, мать их за ногу, берцы, находится на четвертом этаже. А там у нас живет Василий. Мурашки по коже, ком подступает к горлу, бросает в жар и холод одновременно. Коридор упирается в невзрачную дверь, и я снова выхожу на лестницу. Поднимаюсь по ступеням, ступая ногами в носках прямо по холодному кафелю, и очень скоро оказываюсь напротив двери четвертого этажа. Вдох, выдох – кишки заворачиваются, спина покрывается испариной. Да не стой же ты!
Толкаю дверь, и та бесшумно открывается. На этаже звенящая тишина, словно туман в воздухе, осязаема и ощущается тонким смогом, легкой взвесью, стелящейся по углам огромного темного коридора. Делаю шаг и внимательно вслушиваюсь. Тут тоже безопасно – он очень надежно заперт, но мне все равно нехорошо. Руки трясутся, горло высохло, язык онемел. Вдруг, он вырвался? Маловероятно, но все же… Еще несколько шагов делают меня смелее, и я ускоряюсь. Мимо Василия не пройдешь – он прямо в центре развилки и другими путями к обуви не подобраться. Зачем? Ну, во-первых, целенаправленно следить за ним некому, да и желающих немного – кому же хочется таращиться на эту хрень двадцать четыре часа в сутки, а потому это единственный способ отслеживать его судьбу. Ну, а во-вторых… во-вторых, наша сволочь утверждает, что мы должны воспринимать их, как должное, мы обязаны приучить себя относиться к ним равнодушно. Если получится. А если не получится, то хотя бы не впадать в ступор. В идеале мы должны выработать иммунитет, и это своеобразная прививка: «Василий должен стать обыденностью, такой же простой и рутинной вещью, как собственное дерьмо в толчке», – конец цитаты.
Впереди вырисовывается огромный куб – мы долго и кропотливо ваяли его на протяжении многих реверсов, и его очертания отпечатались в мозгу так отчетливо, что я досконально помню все детали его конструкции. Я знаю, что он очень прочен, но все же, кишка за кишку заворачивается, и сердце неистово колотится в груди. Куб растет, мое сердце бешено молотит. Мои шаги не слышны, дыхание – через рот – чтобы и мышь ухом не повела. Движение вдоль стены, я осторожно, очень тихо приближаюсь к огромному прозрачному сооружению из закаленного стекла, чтобы не…
БАХ!
Резкий, громкий удар о стекло. Визжу, отбегаю назад. Мотор в груди так долбит, что я ничего не слышу, кроме грохота крови в ушах. Я неистово шарю глазами по кубу, отступая на полусогнутых, готовая в любой момент припустить, если понадобится. Но проходит секунда, две, три… я вижу его. Он – внутри. Вот ублюдок… Красная тварь расцветает по ту сторону стекла, вырастая во весь рост – длинные ноги поднимают гибкое тело, тонкие руки впиваются в стекло и, словно силиконовые, прилипают к поверхности, как будто он задумал просочиться сквозь несколько слоев ударопрочного стекла. Его тело – безликая масса, без костей, формы и сущности. Он похож на человека лишь потому, что охотится на него. По ту сторону стекла на меня смотрит Красный – его лицо вглядывается в темноту коридора, пытаясь копировать меня. И именно попытка повторить заставляет меня сделать еще один шаг назад. Копируют они весьма достоверно, при том, что у него даже глаз нет, и видит он меня не благодаря отраженному свету (мы абсолютно точно знаем – они видят в кромешной тьме). Уши ему без надобности, потому что для них слышать – не значит уловить движение волны, и децибелы им по боку. И чует он меня не носом. Вся эта мерзкая красно-коричневая жижа под прозрачно-розовой кожей – один большой, единый орган осязания. Красный – огромный датчик, настроенный на человека. Датчик и изощренный способ убийства. И вся его система обнаружения работает совершенно иным способом – он нас просто чует. Не знаю – как, понятия не имею, с чем это можно сравнить, потому что никто не знает принципа работы его «радара», но одно могу сказать наверняка – он найдет человека за семью замками, отыщет в самую глухую, беспроглядную ночь при полном штиле. Вы не обманете его запахом, не собьете со следа звуками и следами ног, если будете идти спиной вперед. Ему плевать, что вы там вытворяете – он видит вас всем своим существом.
Останавливаюсь. Красный замирает вслед за мной. Может, минуту, а может всю мою жизнь мы пялимся друг на друга, словно время что-то решит. Смотри не смотри, никому из нас ничего непредвиденного эта ситуация не сулит – он за стеклом и добраться до меня не сможет, я – тоже за стеклом, хоть и по эту сторону, и мне нечего бояться. Но это только на словах так просто, а на деле, чтобы сделать шаг вперед, мне понадобилось всё мое изрядно потрепанное мужество. Шаг и еще один, сокращают расстояние между мной и стеклянной клеткой, и все меньше и меньше уверенности в моих движениях, и все сильнее урчит в кишках – блин, не обделаться бы. Все время красный неотрывно следит за мной – его круглая голова нацелена на меня, и лицо, если так можно назвать ровную выпуклую поверхность, где ни глаз, ни носа, ни ушей – просто ровное красно-коричневое яйцо в мутной розовой пленке – внимательно всматривается в меня, ловя в кромешной тишине каждый звук, каждый трусливый импульс, что роняет в пустоту мое тело. Красный тянет голову вниз, опуская её ниже уровня плеч, и прижимает покатый лоб к стеклу – тот расплющивается и рассекается по прозрачной перегородке, и я очень красочно представляю себе, что было бы, будь мы оба свободны.
– Привет, Василий… – непонятно зачем говорю я, обходя прозрачный куб слева. Красный отлепляет голову и руки от передней стенки куба и медленно переступает ногами, следуя за мной. Обхожу левый угол стеклянного карцера и наблюдаю за тем, как двигается Красный – неуклюже, неловко, медленно. Медный говорит, что это была наша первая ошибка – когда мы впервые увидели этих тварей, мы подумали, что эта мерзкая куча дерьма не может причинить нам вред, поскольку на неё смотреть-то было жалко, не то что бояться – странное, жалкое, жуткое существо, которое толком со своими – то конечностями сладить не может. В спокойном состоянии они похожи на шевелящееся желе, и никому и в голову не пришло бегать от существа, которое еле тащит студенистое туловище на тонких, бесформенных, подгибающихся ногах. Как же дорого обошлась нам наша гордыня – в тот первый день счет шел не на сотни – тогда люди гибли тысячами. Второй ошибкой было полагать, что у них нет рта…
Вытянутое яйцо-лицо разделилось пополам, и нижний кусок «лица» почти отвалился – рот появился там, где и должен был, что случалось не всегда, но был неестественно огромен. Мое лицо совершенно непроизвольно скривилась от отвращения, наблюдая за попытками Василия вернуть на место сползающую на грудь нижнюю челюсть – внутри расцветала сверкающая россыпь зубов, искрящихся в скудном свете опасной красотой ленточной пилы в несколько рядов – крошечные, мелкие, их было так много, что они спускались почти до самого горла, выстилая рот твари смертью. Упавшая нижняя челюсть вернулась на место, только теперь рот стал круглым и напрочь лишился губ – Красный прилип ртом к стеклу и присосался на манер пиявки, демонстрируя мне свои намеренья.
Вот тут я захохотала – нашел, чем напугать! Ваши глотки уже давно стали для человечества синонимом дешевых второсортных порнушек – неестественно, бездарно, сюжет избит, актеры невразумительны и вообще, всё это уже где-то было. Я показала ему средний палец, и уже было собиралась отвернуться – надо же, наконец, достать эти гребанные берцы – но тут Красный отлепил свой хобот, вытянулся в стройную прямую и красочно показал мне, как хорошо знает, чего я боюсь.
Чего мы все боимся.
Он съежился, уменьшаясь прямо на глазах, словно кто-то стравливает воздух из воздушного шара. Я дернулась – улыбка сползла с моего лица. По ту сторону стекла бесформенное желе обретало форму, и я уже знала, что это будет – моя голова непроизвольно замоталась в стороны. Пячусь назад и смотрю, как красно-коричневое месиво становится тонким и хрупким – шея, плечи, руки становятся покатыми, но слегка угловатыми, отчего скорее напоминают мальчишку, нежели двадцатиоднолетнюю девушку. Но я точно узнаю рельеф живота, плоских, иссушенных бегом бедер и изгиб икр, которые выдают заядлого спринтера – там, за стеклом, появляюсь я. Раскрываю рот в немом мате – Красный не умеет копировать цвет, текстуру, детали, но и того, что я вижу вполне достаточно, чтобы взорвать мой пульс до небывалых высот. Красно-коричневая «я» пялится на меня с той стороны стекла – её руки – безвольными плетями вдоль тела, её ноги косолапят, а голова прямо и беззастенчиво сверлит меня несуществующими глазами. Красный умеет копировать лишь формы, а потому «я» по ту сторону стекла выглядит, как статуэтка из кишок и крови, завернутая в розовый презерватив.
Мой желудок метнулся к горлу. Разворачиваюсь и бегу, оставляя за своей спиной прозрачный куб и мерзкую тварь, которую мы ласково именуем Василием.
***
Мой взгляд елозит по тонким травинкам – их зелень, нарочито яркая, сочная, покрытая жемчугом прозрачной росы, рябит в глазах, будто движется. Медный сказал, что на самом деле трава не была такой зеленой. Но мне плевать, потому как она, сфотографированная и приукрашенная, гораздо живее, чем та, что сейчас на улицах. Беглый взгляд в угол – оттуда не меня ехидно смотрит пара полуботинок на шнуровке. Отворачиваюсь – глаза б мои не видели этого уродства. Ложусь на спину и смотрю на потолок – там голубое небо с одной стороны и звездное иссиня-черное с другой. Смена дня и ночи тоже не выглядела так, как на моем потолке. В тысячный раз задаю себе вопрос – почему я не помню элементарных вещей? Смотрю на резкую черту, отделяющую день от ночи, (фотообои с голубым небом я просто наклеила встык с фотообоями звездного неба) и пытаюсь представить себе, как же она выглядела на самом деле. Медный рассказывал, Тройка показывала фото, но я так и не поняла, как яркое голубое небо может превратиться в черную звездную ночь посредствам ярко-красного шара – чтобы получить черное из голубого, нужно оранжево-красное? В моей голове это не укладывалось. Переворачиваюсь на живот и чувствую, как подо мной перекатываются пружины матраса – я его просто на пол бросила. Смотрю на пшеничное море: рассветное солнце играет в колосках, и кажется, что каждое зернышко – из чистого золота. Естественно, Медный и тут сказал, что это тоже не было и в половину так красиво, как на моих фотообоях. А сам добрых полчаса (если не больше) молча рассматривал рожь в рассветном мареве. Мне тогда казалось, что он на грани – было в его лице что-то такое, что сделало его самым несчастным, самым опустошенным человеком на всей земле, готовым прямо сейчас бросить все это к чертовой матери. Наверное, это и было бессилие – в его чистом, первозданном виде. Хорошо, что в тот момент мы были вдвоем. Помню, весь оставшийся «день» он не проронил ни слова. Кстати, «день» и «ночь» мы тоже принесли из прошлого. Вернее, не мы, а они. Я ничего не принесла, потому что у меня прошлого нет. Все, что я знаю о мире – обрывки воспоминаний других людей, их слова, их мысли, их прошлое, а значит и их выводы, основанные на вышеперечисленном, и если человек есть сумма прожитого опыта, тогда я – полный ноль. То есть получается, что вроде как и не человек вовсе. Закрываю глаза, ложусь на левый бок и подтягиваю ноги, упираясь коленями в подбородок. Я думаю о крысах – Медный (черт бы побрал этого Медного…) говорит, что до Апекса работал старшим лаборантом в каком-то институте, на кафедре изучения социально-поведенческого чего-то там, блин и не помню уже, чего. Но не суть. Суть в одном эксперименте над крысами, о котором он рассказывал нам, будучи «под градусом». Так вот, вся его суть сводилась к тому, что большу́ю популяцию крыс сажали в огромный закрытый, трехэтажный, прозрачный бокс, где грызуны могли свободно передвигаться по этажам. Им предоставлялось абсолютно все – еда, вода, возможность спать и спариваться сколько угодно. Не было только свободы и необходимости работать (добывать). Так вот, Медный рассказывал, что первым бросался в глаза интересный факт – крысы никогда не пользовались вторым и третьим этажами – вся огромная популяции умещалась на первом этаже, с той лишь особенностью, что они рассаживались по разным углам и старались свести к минимуму контакты между собой, потому как если таковое случалось, неизменно приводило к стычкам, дракам и, в редких случаях, к смерти. Но, несмотря на полную обеспеченность едой, водой и комфортными условиями проживания, спустя какое-то время популяция начала резко сокращаться – крысы попросту перестали размножаться. Часть из них стала гомосексуальна, остальные потеряли к сексу всякий интерес в принципе. Кроме того, каннибализм развился до небывалых процентов, несмотря на то, что еды и воды по-прежнему было вдоволь. Он не прекратился даже тогда, когда популяция стала настолько мала, что из огромной стаи численностью тысяча особей, осталось лишь полтора десятка, то есть тогда, когда отпала необходимость бороться за территорию. За эту увлекательную и поучительную историю наша сволочь вознаградила Медного сломанной скулой, сочным синяком и выбитым мизинцем (вопрос, что именно произошло, чтобы получилось такое забавное увечье, не дает нам покоя и по сей день), и теперь он все время жалуется, что сломанная скула ноет на перемену погоды. Ха ха, Медный, хренов юморист. Поначалу над этой шуткой никто не смеялся, а теперь она стала крылатой – с того момента, как Апекс раскрыл нам свои объятья, погода не меняется. С того самого дня, семнадцатого сентября две тысячи сто второго года, день не сменяется ночью, а на смену бесконечной осени не приходит зима, реки больше не текут, не идут дожди, семя, посаженное в землю, не взойдет даже через тысячу лет.
Мир превратился в безжизненные декорации, где подвижными остались лишь люди и Красные.
Глава 2
– Ну и как там Василий? – спрашивает Отморозок.
Поднимаю голову, смотрю на него, не прекращая шнуровать ботинок. Секундная пауза, после чего я снова опускаю голову и бубню:
– Нормально. Чего ему будет-то?
– И правда ведь, зараза, ни хрена ему не делается, – хохочет он, а затем поворачивается в «кухню» и орет. – Куцый!
Из «кухни» доносится вопросительное мычание.
– Давай траванем Василия? – орет Отморозок.
Слышатся неторопливые шаги, и к нам подходит наша сволочь – у него в руках банка с маринованными огурцами, и он с аппетитом ими хрустит. Поравнявшись с Занудой, лениво оглядывает нас троих:
– Чем? Тебя ему скормить? – говорит Куцый с набитым ртом. – Боюсь, он такое говно и жрать-то не станет, – Куцый переводит взгляд на меня, смотрит, как я маюсь со шнуровкой, и, прожевав, говорит. – Тебе помочь?
Бросаю на него быстрый взгляд:
– Не надо.
– А чё сразу говно-то? – весело парирует Отморозок. – Слушай, а может попробовать кислоту из аккумуляторов?
Куцый на Отморозка даже не смотрит, он терпеливо наблюдает за тем, как я шнурую левый ботинок. Ему отвечает Зануда:
– Кислоты уже пробовали, – голос у Зануды слегка гнусавый, отчего кажется, что каждую секунду своей жизни он чем-то бесконечно недоволен. Собственно, за это его прозвали Занудой. На самом же деле он совершенно не зануден, просто голос такой.
– Когда мы успели?
– Не мы, – голос Зануды еще скучнее. – Другие.
– Кто?
На этот раз в разговор вклинивается Куцый:
– Северные, Центральные, Унылые, Мореходы… – Куцый смотрит на мои руки, – …Барыги, Гастролеры и даже эти… – его взгляд становится все напряженнее и он временно теряет мысль, но затем, – …Сектанты. Твою мать! – он впихивает Зануде банку с огурцами, и в несколько шагов оказывается рядом со мной. Садится на корточки – его руки выхватывают шнурки из моих и ловко сводят на нет мои старания, развязывая бездарно наложенную шнуровку. – Нужно затягивать, а не наматывать на крючки. Затягивать! Поняла? – голос его – раздраженный и резкий, руки затягивают шнуровку так туго, что я стискиваю зубы. – Они должны плотно прилегать. Как вторая кожа, ясно? Не болтаться, а сесть, как влитые. Понимаешь? – он быстро поднимает глаза, я киваю. Куцый снова опускает глаза, глядя на то, как шнуровка вдавливает в мои ноги ненавистные берцы. – Поэтому тебе в них неудобно – ты просто не умеешь их шнуровать.
С левым ботинком покончено, и он принимается за правый, пока близнецы с азартом обсуждают возможность применения кислоты на практике. Зануда гнусаво и лениво объясняет, что кислота их не берет, но Отморозок настаивает на том, кислота кислоте рознь и предполагает, что, возможно, не той кислотой пользовались.
– Да говорю же тебе, что разные кислоты пробовали, – говорит Зануда.
– И что?
– Что, что… не знаю я, что! Просто слышал, что не берет.
Куцый быстрыми, отточенными движениями затягивает шнуровку правого ботинка – молча и раздраженно. Если бы не мой рост, если бы не моя комплекция – давно бы пошла за борт. Но я мелкая и худая, а потому пролезаю в щели, форточки и лазы, куда другим и руку не просунуть. Тут, как известно, главное, чтобы голова прошла, а она у меня тоже невелика (во всех смыслах), поэтому Куцый, прозванный так за то, что всего на десять сантиметров выше меня, терпеливо шнурует мои ботинки. Во мне всего один метр пятьдесят пять сантиметров, поэтому парень, ростом метр шестьдесят пять не может иметь другого прозвища. Было бы неплохо иметь имена, конечно. Если б только вспомнить их…
– Вот! – победно говорит он и хлопает ладонью по моей щиколотке, как по спине добротной лошади. – Видишь, как должно быть?
Опускаю глаза вниз, потом смотрю на него и согласно киваю.
– А я тебе говорю, что надо попробовать, – настаивает Отморозок.
Куцый смотрит мне в глаза:
– Плотно. Как вторая кожа. Поняла?
Снова киваю.
– Говорят же тебе, дубина, бесполезно, – гнусавит Зануда.
– Да мне плевать, кто и что говорит. Мне нужно знать – почему, а не слушать бред…
Куцый поднимается:
– Кислота не берет их потому, что не взаимодействует, – он подходит к Зануде и забирает у него банку из рук.








