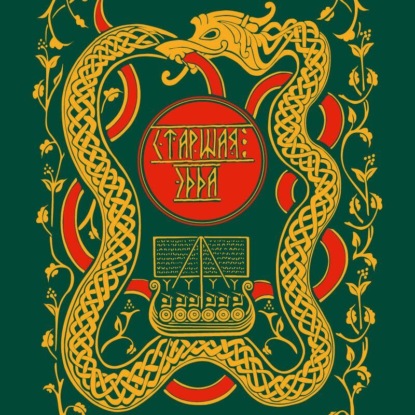Полная версия
Сказания Древней Японии. Мифы и легенды. Коллекционное издание
Не смел ослушаться Катода приказа госпожи. Усадив Хасехиме в паланкин, он отправился с ней в горные дебри Хибариямы. Но он хорошо знал, что девушка не виновата ни в чем, что ничего нехорошего нет за ней. И как же было ему убить ее, сколько бы там ни приказывала госпожа его! Опять же, и вернуть ее обратно в отчий дом нечего было и думать.
Жаль было ему бедную девушку. И вот что он надумал. Живо выстроил он в глубине гор хижину и, решив не возвращаться домой и сам, вызвал сюда свою жену, и вдвоем они стали служить девушке, заботясь о ней. Возвратился Тоионари из отлучки, спросил о дочери. Теруио наговорила ему, что Хасехиме убежала из дома и исчезла совсем после какой-то там выкинутой ею нехорошей проделки. Тоионари был поражен, услышав это.
Он рад бы вернуть дочь домой, но не мог дознаться, где она находится. Так дело и осталось. Прошло несколько времени. Однажды Тоионари в сопровождении большой свиты отправился на охоту в Хибарияму. И вот он видит в одной из горных лощин уединенную хижину, а в ней – красивую девушку, склонившуюся в чтении над священными буддийскими свитками.
«Не случайно она тут! Зачем живет, что делает здесь в этих страшных горах такая юная девушка?» – с удивлением подумал он и, быстро подойдя, взглянул на нее. О, неожиданность! Девушка оказалась не кем иным, как его дорогим детищем, его дочерью Хасехиме.
– Ты? Ты, Хасехиме?! – воскликнул он не своим голосом.
Девушка также была поражена:
– О! Это ты, отец? Как же я исстрадалась, как истосковалась по тебе!
Она кинулась к отцу и, припав к нему, навзрыд зарыдала. От радости, от счастья рыдала она. Такая удивительная встреча! Тоионари думал, что он видит это просто во сне. И он стал расспрашивать, каким образом очутилась здесь она, его юная дочь.
Тогда вышел из соседнего помещения Катода.
– Приветствую тебя, господин! – сказал он. – А как она очутилась здесь – так вот изволь выслушать.
И он подробно рассказал все: и о злом нраве Теруио, и о преследовании ею ни в чем не повинной Хасехиме. В ужас пришел Тоионари, прослушав этот рассказ, и возмутилась душа его. Сейчас же прекратил он охоту и вместе с Хасехиме и обоими Катода возвратился в свои палаты. Проведав об их возвращении, Теруио сообразила, что ей придется жутко, и тут же куда-то скрылась, исчезнув навсегда из дома. Свободной грудью вздохнула Хасехиме, когда не стало в доме ее злой мачехи. Теперь зажила она спокойно и всю любовь, всю нежность и преданность свою сосредоточила только на одном отце. Преданные слуги Катода, муж и жена, заботившиеся о девушке, были щедро награждены и стали жить в довольстве и покое.
Ниспосланная богиней Каннон Хасехиме была проникнута глубокой верой в Будду. Впоследствии она выткала из нитей лотоса картину буддийского рая. И лотосовая мандала[112] Цюдзиохиме известна всем и каждому.
Кошки и крысы
Триста лет тому назад правительством издан был указ, которым повелевалось, чтобы все до единой кошки в столице, содержавшиеся до того на привязи, были освобождены от веревок и содержались на свободе.
И вот разные Буци, Михэ, Тама и Кома, которые до этого были привязаны за шею к столбам, были отвязаны в силу указа и получили свободу. Рады были они необычайно. Они прыгали от радости, как дети, когда наступала хорошая погода после продолжительного дождя, не позволявшего никуда выйти и побегать взапуски друг перед другом, и старались выскочить на свободу. Они залезали на заборы, взбирались на кровли. Теперь они могли делать что хочется.
Более пожилые и степенные устраивали на сушильнях приятельские пирушки, понатащив туда рыбы, самого лакомого для них кушанья. Молодежь, более живая и предприимчивая, устраивала на широком лугу игрища, гоняясь за бабочками, забавляясь игрой в мяч. Везде и повсюду в это время кошек было полным-полно. Они прямо-таки забрали все в свои лапы и чванились необычайно, разгуливая с горделивым видом, задрав кверху нос и вытянув вверх, словно палку, свой длинный хвост: «Мы-де не кто-нибудь, а всесильные кошки и пользуемся особым вниманием у правительства. Нам предоставлено повсюду жить на свободе. Попробуй кто-либо только коснуться кончика наших ушей, сейчас же изорвем мы его вот этими самыми своими когтями. Распростирайтесь в страхе ниц перед нами и сметайте пыль с кончиков наших усов». Да, поистине это было хорошее время для кошек, лучше его уже и не было.

Но для кого не было оно хорошим, так это для крыс. Крысы, исконные враги кошек, не любят и боятся их. Заслышав только кошачий голос, они уже начинают дрожать, и замолкает их писк «цю, цю, цю». И теперь, когда эти ненавистные им кошки стали бродить на свободе и разгуливать повсюду, крысам пришлось быть особенно бдительными и осторожными. Съежившись, забились они по чердакам, на дне водостоков, по грязным норам. Добывать пищу стало невозможно. И только по временам, когда очень уж начинал донимать голод, пробирались они потихоньку в кухню или какой-нибудь шкаф, но если только попадались на глаза кошке, то тут им приходил и конец. Житья не стало крысам совсем. И достать какой-нибудь ломтик сушеного моци[113] или кусочек свечи можно было только с риском для жизни.
Невтерпеж стало крысам. И вот как-то ночью, когда люди и кошки позаснули глубоким сном, собрались они все в одном амбаре на совещание, чтобы обсудить и решить, как же быть им дальше. Из среды их отделилась пожилая уже, умная на вид Крыса. Взобралась она на самый высокий из ящиков и, окинув взглядом все собрание, начала держать такую речь:
– Послушайте, господа! Ныне кошки забрали большую силу, и нам, крысам, остается только перенести свои жилища в пустынные горы или же, забившись по норам, питаться сажей и грязью из помойных ям. Что за проклятое положение! Кошки в десять раз больше нас, и тягаться с ними нам нечего и думать. Но оставаться в таком положении, как сейчас, тоже нам нельзя. В конце концов мы все перемрем с голода. Но вот что я думаю. Самое лучшее, по-моему, – это обратиться с просьбой к людям, чтобы они опять крепко-накрепко попривязали кошек на веревки, как это и было раньше. Кстати, есть тут в одной кумирне знакомый мне монах, жалостливый и сердобольный. Пойду-ка я к нему и попрошу его помочь нам в беде. А вы все ждите меня здесь, не расходитесь!
Все собрание одобрило такое решение:
– Просим, покорнейше просим!
– Хорошо! Сейчас же пойду, попрошу.
– Дорогая, только смотри, будь осторожна!
– Ничего! В кумирне кошек нет.
Быстро изладившись, Крыса торопливо направилась в кумирню и пришла к монаху.
– Почтеннейший монах! А монах! Я пришла с просьбой к тебе.
– Да ты ведь, кажется, Крыса! Ну что там за просьба у тебя?
– Дело в следующем. Как ты изволишь знать сам, почтеннейший монах, теперь во всем городе кошки содержатся на свободе, ну и наше крысиное положение стало из рук вон плохо. По вечерам они рвут нас на части по водостокам, по утрам откусывают нам головы на кухонных порогах. Беда, да и только! Добывать ежедневное пропитание стало нам очень трудно, и если так пойдет дальше, то в недалеком будущем мы все поперемрем с голода. Не ужасно ли это? Какое несчастное, жалкое положение! Так вот, высокочтимый монах, ты милосерден и сострадателен. Да к тому же я знаю, что Будда не дозволяет убивать никаких живых существ. Поэтому я пришла к тебе с покорнейшей просьбой. Помоги нам в нашей беде. Соизволь убедить правительство, чтобы оно повелело опять привязать кошек на веревки. С этой именно просьбой и пришла я к тебе. Наму Амида Буцу! Наму Амида Буцу! – просила Крыса, молитвенно сложив лапки.
Молча слушал монах ее речь, а потом заговорил в ответ Крысе:
– Положение ваше жалкое. Это правда. Но опять, и вы сами далеко не без грешка. Да вот, сказать к примеру, спрячу я себе старательно сушеных бобов или моци, вы тотчас же скрадете. Оклею с трудом наново зонтик – вы изгрызете его в одну ночь. Куплю крахмала – вы весь его уничтожите, прежде чем я успею попользоваться им. Получу пирожное – вы утащите его, не дав мне даже и попробовать. Да это ли только? На всем оставляете вы следы своих зубов, решительно на всем, начиная с книг и кончая моим монашеским одеянием. И так вы надоедливы, так досаждаете, что как ни будь милосерден, как ни будь сострадателен, а всякое терпение лопнет. Поневоле будешь сердиться. А теперь, поди, о своих делишках молчишь, на кошек все валишь! Вишь, разогналась! С кошками-де справу нет! Нет, нельзя так – о себе да о себе только!
Видя, что монах наотрез отказывается помочь им, и не имея ничего больше сказать в свою защиту и оправдание, опечаленная Крыса поплелась обратно домой. Придя в амбар, она рассказала, как было дело.
Все собрание было опечалено, но тем не менее решило, что, очевидно, так просить не годится. Надо пообещать впредь исправиться, отказаться от всех проделок, и если попросить заступничества под таким условием, то незлобивый монах, лучший из людей, конечно, не откажет. Порешив на этом, крысы собрались все вместе и густой толпой повалили в кумирню к монаху. Пришли они. Но – о ужас! – у изголовья монаха сидела пришедшая раньше их полосатая, как тигр, Кошка и что-то говорила. Крысы насмерть перепугались и в страхе хотели было уже бежать, но их остановила та самая пожилая Крыса, что ораторствовала в амбаре:
– Стойте! Куда вы? Если будете шуметь, то сами же выдадите себя. Спрячемся лучше где-нибудь тут потихоньку да послушаем, что она говорит такое! – убеждала она их. Понемногу, понемногу крысы успокоились, спрятались за перегородкой и, затаив дыхание, стали слушать. А Кошка продолжала болтать.
– Послушай, достойнейший монах! – говорила она. – Теперь мы, кошки, содержимся во всем городе на свободе. И вот, как слышно, крысы приходили к тебе и рассказывали про нас всякую небывальщину, клеветали на нас. Совсем это не так, как говорят они. Изволишь ли видеть, крысиная натура хорошо известна всем, ведь это самые беспокойные и надоедливые твари, воришки, от которых нет спасения!
А теперь возьми нас. Мы потомки индийского тигра. Япония – страна небольшая, да, кроме того, она страна нежности, мягкости, вот мы и стали такими маленькими, такими смирными, а прояви только мы свои тигровые свойства, не устоять против нас ни одному, какой бы ни был там свирепый зверь. Вот что за животные мы! Поэтому и правительство отнеслось к нам с большим вниманием и заботливостью, и теперь благодаря его указу мы содержимся на свободе. Конечно, иначе и быть не должно! Само собой разумеется, что крысы будут говорить про нас всякий вздор, они ведь преследуют свои личные цели. И если мы убивали этих подлых животных, раз они попадались нам на глаза, то делали мы это не для собственной пользы. О людях заботясь, убиваем мы крыс.
Кошка хвасталась и всячески расхваливала себя. Узнав из этого рассказа, что кошки – потомки индийского тигра, прятавшиеся за перегородкой крысы перепугались окончательно и, чтобы не попасть в беду, поторопились подобру-поздорову убраться восвояси, пока еще Кошка не успела заметить их.
Так как жить в городе при таких условиях стало окончательно невозможным, крысы пришли к заключению, что самым лучшим для них будет сделаться дикими крысами и, уйдя в деревни, влачить там свое существование, питаясь на полях рисом. Все они приготовились в путь и, оставив свои насиженные жилища на чердаках и в водостоках, собирались было уже выступить в путь, но тут заупрямилось более молодое, крепкозубое поколение.
– Да что же это такое? – заговорили они. – Как там ни страшны кошки, но нельзя же, в самом деле, из-за этого бросать наши старые жилища в городе, где мы так хорошо жили до сих пор, побросать их и уйти в деревню, стать дикими крысами. Нет, это совсем не годится. Оно, конечно, может, кошки и потомки индийского тигра, но кто знает это? А вот мы, крысы, так уж действительно состоим, с позволения сказать, при боге Дайкоку[114]. Если мы удерем так просто, то нам нельзя будет и на глаза показаться ни одному из животных. А ну-ка, соберемся лучше все вместе да ударим на кошек. Пусть мы и не устоим против них, зато умрем, по крайней мере, славной смертью в бою. А если мы победим их, то изгоним этих тварей из города и будем себе по-прежнему проникать беспрепятственно повсюду: и в кухни, и в самые заветные шкафы, будем таскать опять все сюда к себе. Будем делать все, что только нам захочется, днем или ночью. Ну же, рискнем разок!
Их мужественные речи воздействовали на других. Переселение в деревню было оставлено, и, не откладывая дела в долгий ящик, они выступили в поход против кошек. Кошки сейчас же проведали об этом.
– Ах, несчастные твари! Мы еще и не думали нападать на них, так они сами начинают, зубы нам показывают! Ладно, пусть летят, как бабочки на огонь! Жизнь им, видно, надоела! Пожалуйте, пожалуйте! Наедимся же мы крыс до отвала! – заговорили кошки и, наточив когти, начали с минуты на минуту поджидать нападения крыс.
В столице должна была вот-вот разыграться битва между кошками и крысами. Но тут спешно прикатил не кто иной, как сам буддийский монах. Сведав о том, что затевалось, он поторопился и влетел в середину между обеими враждующими сторонами как раз в то время, когда они мерили друг друга взглядами, готовясь начать схватку.
– Эй вы, кошки! Крысы! Стойте! Погодите! Неужели вы думаете, что вам будет какая-нибудь польза от того, что вы вступите в драку друг с другом? Крысам, конечно, не осилить кошек. Но когда кошки победят крыс, над ними опять же будет Собака, а с Собакой им не тягаться. И кто бы ни победил тут, все же мир не станет собственностью победителя.

Мир находится в общем владении, и если только будут жить в дружбе люди с людьми, птицы с птицами и животные с животными, то жизнь будет легка и приятна всем. А если животные будут тащить пищу у людей, как делают крысы, или мучить других невинных животных, в чем грешны кошки, то, так уж и знайте, небесное наказание не замедлит явиться само собой. Если вы уяснили себе эту истину, то вот вы, крысы, возвращайтесь к себе домой и живите смирно по своим норам, определив себе в пищу что-нибудь подходящее из того, что остается от людей. А вы, кошки, в свою очередь, довольствуйтесь супом, который получаете в раковинах из-под морского ушка[115], и перестаньте есть таких невинных животных, как крысы. Если вы будете жить между собою дружно, то и люди отнесутся к вам участливо и будут время от времени уделять вам остатки жертвенного моци и сушеного бонито [116]. Во всяком случае, я не допущу вас до драки.
Так поучал их бонза, стоя посредине между противниками, и подействовало, видимо, его поучение на них. Первыми преклонили колена кошки.
– Впервые теперь благодаря твоей проповеди уразумели мы истину. Отныне и впредь не будем мы уже преследовать невинных крыс, не будем совершать ненужного умерщвления живых существ, – говорили они.
Крысы, в свою очередь, пали ниц.
– Если так говорят почтенные кошки, то и мы впредь оставим все свои злостные проделки, – почтительно заявили они.
Монах обрадовался.
– Ну так похлопайте лапками в знак восстановления хороших отношений между вами, – сказал он и захлопал сам в ладоши, приговаривая при этом: – Сян, сян, сян! – хлопал монах.
– Мян, мян, мян! – вторил ему какой-то шутник из кошек.
Усивакамару
Давным-давно было это, и с тех пор прошло уже шесть целых веков. Шла тогда непрерывная война в Японии между двумя родами: Минамото и Тайра[117]. Воевали они между собой, и побеждали, и были побеждаемы. Был в это время из рода Минамото военачальник по имени Иоситомо, звания самоноками [118]. Как ни могуч и храбр он был, но отвернулось счастье от него. Будучи разбит в сражении, он искал спасения в бегстве, но был убит подосланным убийцей. У него было восемь душ детей, и самым младшим был Усивакамару. Когда был убит его отец, Усивакамару был совсем еще младенцем, и мать его, Токива, еще не отняла его от груди.
Вся власть очутилась в руках у Тайра, они были полными господами, и хватали, и убивали членов дома Минамото, как только находили кого-нибудь из них. Минамото должны были укрываться и соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не попасть в руки врагов. Поэтому Токива захватила с собой, кроме Усиваки, еще двух детей, Ивамаку и Отоваку, и скрылась с ними в деревне, затаившись там. Хейцы захватили почти всех Генцев[119]. Одних они казнили, других посылали на острова. Однако им не удалось захватить Токиву и бывших при ней детей. Они искали их повсюду, но никак не могли разузнать, где они укрываются. Тогда они придумали такой способ, чтобы открыть беглецов.
Они схватили Секию, мать Токивы, и потребовали, чтобы она указала убежище дочери, обещая за это оставить ей жизнь и грозя жестокой смертью, в случае если она откажется указать его. Изо дня в день допытывали и мучили они ее. Токива в своей деревне узнала об этом и пришла в ужас.
– Мое спасение будет стоить жизни ни в чем не повинной матери моей. А с другой стороны, если Хейцы схватят меня, то, вероятно, убиты будут эти несчастные дети, все до единого. А-а! Что мне делать? Как поступить? – волновалась она в своем одиночестве. Не могла она примириться с тем, что ее нежно любимая мать подвергается таким страданиям, что она может погибнуть. И она решилась. Уложив на груди своей однолетку Усиваку, ведя за руки по одну сторону семилетнего Имаваку, а по другую – пятилетнего Отоваку, она направила свой путь в столицу.
Стояла как раз зима, и с самого утра в этот день валил густой снег, дул резкий, холодный ветер, дорога была плоха, и женщина шла пешком на своих слабых ногах, шла среди всех этих ужасов с тремя малолетними детьми. Тяжело и тоскливо было у нее на душе, велико было ее горе, велики страдания. Грудной ребенок плакал от холода, шедшие пешком дети выбились из сил и хныкали, а она шла, успокаивая одного, уговаривая и утешая других. Шла и пришла наконец в столицу. Тотчас отправилась она в ставку Хейцев.
– Я Токива! Я пришла сюда с тремя своими детьми, пришла и объявилась добровольно и за это прошу пощадить жизнь моей матери, – сказала она.
Горем и страданием звучала мольба ее. И понял ее даже Кииомори[120], предводитель Хейцев. Жалость почувствовал он к ней и сейчас же отпустил ее мать. И еще решил он, что незачем убивать таких малолетних детей.
Он отослал Имаваку и Отоваку послушниками в буддийский монастырь, а Усиваку вместе с его матерью, Токивой, оставил при себе. Так и рос здесь Усивака. Но когда ему исполнилось семь лет, он также был отослан в буддийский монастырь Токобо, в Курамаяме, так как и ему тоже предстояло монашество.
По прибытии в монастырь Усивака, который в будущем должен был принять монашеский сан, начал заниматься чтением священных книг, письмом и всею душою отдался учению. Однако по натуре он был сильный духом ребенок, не мирившийся с подчиненным положением, не любивший уступать. Из рассказов своих учителей, из болтовни товарищей он узнал, что Хейцы истребили весь дом Минамото, начиная с Иоситомо. Горе и чувство мести овладели им. Никогда не переставал он думать об этом, ложился ли спать, вставал ли ото сна, а притом еще не мирился он с мыслью, что должен стать монахом.
У него возник смелый план, им овладело страстное желание стать в будущем великим полководцем, обрушиться грозной карой на Хейцев, стереть их с лица земли. И вот после этого, выждав, бывало, когда все заснут глубоким, мирным сном, он потихоньку уходил из монастыря в одну долину, прозванную Содзиогатами, и там учился в одиночку мечевому бою, поражая деревья и утесы деревянным мечом, который приносил с собою.
Однажды ночью Усивака пришел, по обыкновению, в Содзиогатами и упражнялся себе, действуя своим деревянным мечом. Вдруг поднялся, зашумел и загудел ураган, заскрипели и застонали деревья, ломаемые бурей, и в тот же миг перед глазами Усиваки появился откуда ни возьмись страшный великан, лысый монах, ростом в косую сажень, с громадными глазами и с длинным носом. Смелый по природе Усивака не испугался, он не испугался бы, что бы там ни явилось перед ним.
– Что ты такое? – спросил он и выправил для боя свой деревянный меч.
Захохотал монах, и гулким грохотом пронесся хохот его.
– Я главный леший[121], давно уже обитаю я здесь, в Садзиогатами. Немало я дивился тебе, как ты каждую ночь приходишь сюда и в одиночку учишься владеть мечом. Я решил, что с этой ночи я сам буду учить тебя этому. Вот почему я и явился сюда.

Услышав это, Усивака очень обрадовался:
– О, ты явился как раз кстати! Ну, пожалуйста, начинай же поскорее учить меня.
Взмахнув своим деревянным мечом, он начал наступать на лешего, стараясь нанести ему удар. Леший мгновенно увернулся и начал действовать веером, который держал в руке. Он принимал удары слева, отбивал справа и таким образом обучал Усиваку разным приемам мечевого боя. Мало-помалу Усивака начал совершенствоваться. С этих пор неизменно каждую ночь приходил он сюда и учился у лешего разным сокровенным приемам боя на мечах. Благодаря этому он стал необыкновенно ловок и искусен в этом деле, сделался таким рубакой, что в один миг укладывал пластом обыкновенных леших, будь их хоть десять, хоть двадцать даже.
В это время был некий Мусасибо Бенкей, монах-силач. Бенкей жил в Сайто на Хиеидзан[122]. Этот Мусасибо из Сайто пользовался страшной славой неукротимого малого, от которого можно было всего ожидать, и одно уже имя его приводило в трепет большинство людей. С чего-то Бенкею пришла в голову шальная мысль отнимать у людей мечи, и он решил набрать их таким образом до тысячи штук. Каждый вечер выходил он к мосту Годзио и, накидываясь неожиданно на проходивших там, отнимал у них мечи, а если случалось, что кто-нибудь начинал сопротивляться, то он тут же с одного маха убивал такого своей тяжелой алебардой, которую постоянно носил с собою. Все стали бояться, и после захода солнца никто не решался уже проходить в этих местах.
Усивака прослышал об этом. «Интересный, однако, малый этот Бенкей, – подумал он. – Я, положим, не знаю, что такое этот монах, но, судя по тому, что он отнимает мечи, он не простой заурядный грабитель, – вот сделать бы его своим сподвижником! А ведь, пожалуй, он оказал бы немалую помощь, когда придется воевать с Хейцами. Ладно! Сегодня же ночью пойду испытаю этого монаха».
Смел и крепок духом был Усивака, не по годам смел. Поигрывая на своей старой любимой флейте, он пошел к месту Годзио. На счастье, ночь была лунная, светлая. Прошло несколько времени. Вдруг впереди показался громадный, чуть не до облака ростом монах, в черных доспехах и белом капюшоне, покрывавшем голову. Он шел тяжелой, размеренной поступью, опираясь на огромную алебарду как на трость.
«Ага! Вот он самый, этот знаменитый грабитель мечей! Действительно, здоровый монах, силач», – подумал Усивака, завидев его, но ничуть не испугался и, поигрывая на флейте, продолжал себе идти с самым независимым, беспечным видом.
Монах остановился, окинул его взглядом. Однако, найдя, должно быть, что перед ним ребенок, которого нельзя считать за противника, хотел было пройти, не трогая его. План Усиваки расстроился, но он решил довести дело до конца.
– Эй ты! Что же не нападаешь? Коли так, то я сам начну! – крикнул он, подвигаясь постепенно к монаху. Очутившись около него, он неожиданно для последнего сильно пнул ногою в рукоять его алебарды.
Бенкей сам не хотел его трогать, хотел пощадить его как ребенка, но вышло наоборот: этот ребенок начал сам же первым. Бенкей освирепел.
– Ах ты, хвастунишка! – воскликнул он и, подняв алебарду, сделал страшный взмах поперек, намереваясь перерубить несчастного Усиваку на две части пониже груди. Но не тут-то было! В мгновение ока увернулся Усивака от удара. Отскочив на две-три сажени назад, он вынул заткнутый за поясом у себя веер и пустил им в Бенкея. Уныло засвистал и зарокотал полетевший веер и глухо ударился в лоб Бенкея, угодив ему промежду бровей.
Бенкей пришел еще в бóльшую ярость, опять взмахнул он своей страшной алебардой и отпустил ее вниз, чтобы разрубить Усиваку вдоль, как раскалывают дрова, но Усивака вскочил в этот раз на перила моста, избегнув удара.
– Да вот где я! – со смехом закричал он, хлопая в ладоши.
Дважды уже промахнувшийся Бенкей окончательно вышел из себя. Вертя алебардой, как мельничным колесом, без перерыва начал он рубить ею и вдоль и поперек.
Но Усивака, прошедший хорошую школу под руководством лешего из Курамаямы, был удалым бойцом, он обладал необычайной ловкостью и проворством. Поражал его Бенкей спереди себя – он оказывался сзади; рубил его позади себя – он был как раз впереди. Как ласточка, перелетал он, перескакивал, как обезьяна, и никак не попадал под удар. Невмоготу стало даже и Бенкею, он начал уставать. Вдруг Усивака подскочил и вышиб у него из рук алебарду, а когда растерявшийся Бенкей нагнулся, чтобы поднять ее, он так толкнул его сзади, что Бенкей растянулся на четвереньки посреди моста во весь свой громадный рост. Усивака мигом вскочил на него верхом.