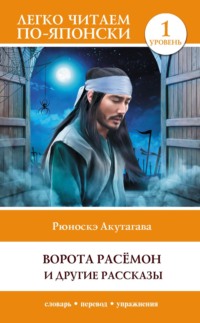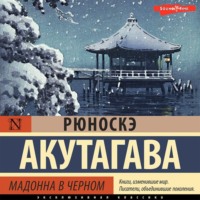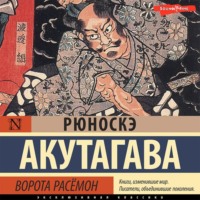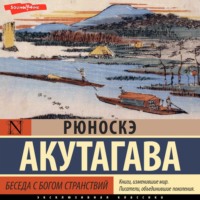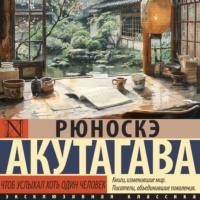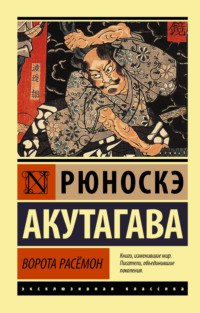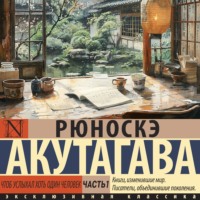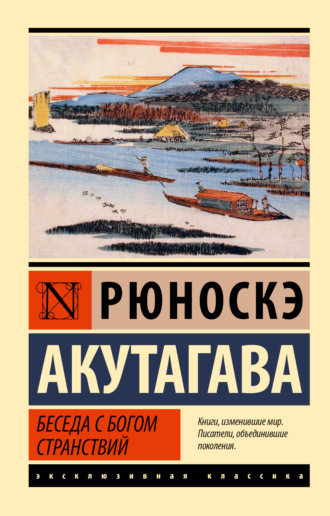
Полная версия
Беседа с богом странствий

Рюноскэ Акутагава
Беседа с богом странствий
Серия «Эксклюзивная классика»
Перевод с японского

© Перевод. В. Гривнин, наследники, 2022
© Перевод. Т. Редько-Добровольская, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Беседа с богом странствий
Настоятель храма Небесного Владыки преподобный Домё потихоньку покинул ложе и, опустившись на колени перед столиком, развернул восьмой свиток сутры Лотоса.
Огонь в светильнике, поднимаясь над обгоревшим кончиком фитиля, ярко освещает инкрустированную перламутром поверхность столика. Из-за полога доносится сонное дыхание Идзуми-сикибу. Только оно нарушает разлитую в покоях тишину весенней ночи. Не слышно даже мышиного писка.
Преподобный Домё уселся на отороченную белой каймой циновку и, стараясь не потревожить спящую, принялся вполголоса читать сутру.
Такова была его давнишняя привычка. Человек этот происходил из рода Фудзивара. И хотя был он родным сыном дайнагона Митицуны, наставника принца крови, да к тому же учеником епископа Дзиэ, верховного иерарха секты Тэндай, не соблюдал ни Трёх Заповедей, ни Пяти Запретов. Больше того – по образу жизни он скорее походил на тех мужчин, которых англичане именуют «dandy», а мы – «первейшими любострастниками в Поднебесной». Но, как это ни странно, в промежутках между любовными утехами он обязательно читал сутру Лотоса. Судя по всему, сам он не усматривал в этом никакого противоречия.
Вот и сегодня он пришёл к Идзуми-сикибу отнюдь не в роли проповедника. Будучи одним из многочисленных поклонников этой любвеобильной красавицы, он проник в её покои, чтобы в этот весенний вечер не скучать в одиночестве. Хотя до первых петухов было ещё далеко, он украдкой покинул ложе, дабы устами, хранившими запах вина, прочесть благостные слова о стезе, на коей все живые существа обрящут спасение…
Поправив ворот своей накидки, преподобный Домё принялся истово читать сутру.
Сколько времени он провёл за этим занятием – неизвестно. Только вдруг он заметил, что огонь в светильнике убывает. Верхняя часть пламени стала синей, и свет постепенно делался всё более тусклым. Вскоре фитиль начал коптить, и пламя вытянулось в тоненькую ниточку. Преподобный Домё в раздражении несколько раз подкручивал фитиль, но от этого свет не становился ярче.
Однако это ещё не всё – по мере того как свет иссякал, воздух в глубине покоев сгущался, пока, наконец, не принял смутных очертаний человеческой фигуры. Преподобный Домё невольно прекратил чтение.
– Кто здесь?
В ответ тень чуть слышно проговорила:
– Простите, что потревожил вас. Я старец, живущий близ храма на Пятом проспекте.
Преподобный Домё слегка откинулся назад и, напрягая зрение, принялся рассматривать старца. Тот расправил рукава белого суйкана и с многозначительным видом уселся напротив него. Хотя отчётливо разглядеть старца в темноте было невозможно, ниспадающие концы тесьмы от шапки-эбоси, да и весь его вид свидетельствовали о том, что это не лис и не барсук-оборотень. В руке он держал изысканный веер из жёлтой бумаги, который было нетрудно рассмотреть даже в полумраке.
– Какой такой старец?
– В самом деле, назвавшись всего лишь старцем, я выразился не слишком ясно. Я – Саэ, бог странствий с Пятого проспекта.
– Вот как? Чего ради ты сюда пожаловал?
– Я услышал, как вы читаете сутру, и на радостях явился вас поблагодарить.
– Я всякий день читаю эту сутру, не только сегодня.
– Тем более.
Бог Саэ почтительно склонил свою коротко остриженную, изжелта-седую голову и всё тем же едва уловимым шёпотом продолжал:
– Когда вы читаете сутру, чистым звукам вашего голоса внемлют не только Брахма и Индра, но и все будды и бодхисатвы, коих не счесть, как не счесть песчинок на берегах Ганга. Могу ли я, недостойный, равняться с ними? Однако нынче… – В голосе старца неожиданно послышалась язвительная нотка. – Однако нынче, перед тем как читать сутру, вы не только не совершили омовения, но и прикасались к телу женщины. Вот я и подумал, что боги и будды, питающие отвращение ко всякой скверне, вряд ли захотят пожаловать сюда, и, воспользовавшись этим, пришёл вас поблагодарить.
– Что ты хочешь этим сказать? – в сердцах воскликнул преподобный Домё.
Старец же как ни в чём не бывало продолжал:
– Преподобный Эсин говорил, что во время молитв и чтения сутр нельзя нарушать четыре правила. Это великое прегрешение, за которое человек будет ввергнут в ад, и поэтому впредь…
– Замолчи!
Перебирая хрустальные чётки, Домё пронзил непрошеного гостя колючим взглядом.
– За свою жизнь я прочёл немало сутр и толкований священных книг и знаю наперечёт все обеты и заповеди. Уж не принимаешь ли ты меня за глупца, не имеющего понятия о том, о чём берёшься рассуждать ты?
Бог Саэ не произнёс ни слова в ответ. Он сидел с опущенной головой и внимал преподобному Домё.
– Слушай же меня хорошенько! Когда мы говорим: «Круговорот рождений и смертей есть нирвана», – или: «Заблуждения и страдания суть вечное блаженство», – то имеем в виду стремление каждого живого существа прозреть в себе природу Будды. Моё бренное тело не что иное, как единство трёх тел просветлённого Татхагаты. Три стези заблуждений приводят к трём благодатям, под коими разумеются обретение бессмертного духа Будды, приобщение к высшей мудрости и избавление от страданий. Бренный земной мир – то же самое, что озарённая светом истины Чистая Земля. Как монах, воплотивший в себе существо Будды, я вкусил от благости буддийского учения о том, что три истины, открывающиеся благодаря трём прозрениям, суть единая, абсолютная и вечная истина. Посему в моих глазах Идзуми-сикибу – это царица Мая. Любовь между мужчиной и женщиной – высшее из благих деяний. Около нашего ложа незримо присутствуют дхармы всех пребывающих в вечности бодхисатв, всех достигших вечного блаженства будд. Моё жилище столь же благословенно, как священная гора, именуемая Орлиным Пиком. Это не та «страна Будды», куда без спроса суются такие, как ты, вонючие блюстители заповедей Малой Колесницы! – Преподобный Домё расправил плечи и, тряхнув чётками, с отвращением воскликнул: – Грязное животное, убирайся прочь!
Старец раскрыл жёлтый бумажный веер и поднёс к лицу, словно желая спрятаться за ним. На глазах у Домё его фигура начала расплываться, пока не растворилась в воздухе вместе с призрачным, точно сияние светляка, огнём светильника. И в тот же миг вдалеке послышался негромкий, но задорный крик петуха.
Наступил тот час, о котором сказано: «Весною – рассвет. Все белее края гор…»[1]
Юноши и смерть
Декорации на сцене отсутствуют. Выходят два евнуха, беседуя между собой.
– В этом месяце шесть из императорских жён должны родить. А если подсчитать тех, кто в тягости, их, должно быть, наберётся несколько десятков.
– Кто же их брюхатит?
– Понятия не имею. В покои императорских жён не может проникнуть ни один мужчина, кроме нас, и тем не менее каждый месяц кто-нибудь из них рожает. Поразительное дело!
– Выходит, их тайно навещает какой-то мужчина.
– Вначале я и сам так думал. Мы увеличили стражу, но это ничего не дало – они знай себе рожают.
– А вы не пробовали допросить самих женщин?
– Вот тут-то и кроется главная загадка. Если верить тому, что они говорят, к ним действительно тайно наведывается какой-то мужчина. Только он якобы невидим и лишь голосом даёт о себе знать.
– Да, в самом деле удивительно.
– Просто невероятно! Но это всё, что мы знаем о таинственном человеке-невидимке. Нужно спешно принимать какие-то меры. Может быть, вы что-нибудь придумаете?
– Признаться, ничего путного мне в голову не приходит. Итак, их навещает какой-то мужчина. Это точно установленный факт, верно?
– Да.
– Тогда, быть может, следует насыпать всюду песок? Конечно, если этот мужчина летает по воздуху – дело другое, но если он ходит по земле, как все люди, на песке должны остаться следы.
– В самом деле! Замечательная мысль! Если нам удастся его выследить, мы сможем его схватить.
– Во всяком случае, попытаться стоит.
– Так и сделаем, причём незамедлительно.
(Оба уходят.)
* * *Придворные дамы сыплют по сцене песок.
– Ну, кажется, всюду насыпали.
– Вот здесь, в этом углу, ещё осталось.
Продолжают сыпать песок.
– Теперь пойдёмте посыпем галерею.
(Уходят.)
* * *Двое юношей сидят при свете свечи.
В. Вот уже год, как мы ходим во дворец.
А. Быстро летит время. Год назад мы только и знали, что рассуждать о «единственно существующей подлинной реальности», «высшем благе» и прочих подобных вещах.
В. Я уже начинаю забывать, что такое «атман».
А. А я давно уже простился с философией Упанишад.
В. Когда-то мы с тобой всерьёз размышляли над тем, что такое «жизнь» и «смерть».
А. Чепуха! Мы только делали вид, что размышляем. Если уж на то пошло, только теперь мы научились мыслить по-настоящему.
В. Не знаю. С тех пор как это началось, я, например, ни разу не думал о смерти.
А. Хорошо, если тебе это удаётся.
В. Глупо размышлять о том, чего всё равно невозможно постичь.
А. И тем не менее когда-нибудь мы оба умрём.
В. Надеюсь, всё-таки год или два у нас в запасе ещё есть.
А. Как знать…
В. Разумеется, любой из нас может умереть хоть завтра. Но если постоянно думать об этом, жизнь утратит всякий смысл.
А. Ошибаешься. Нет ничего более бессмысленного, чем предаваться удовольствиям, позабыв о смерти.
В. Называй это бессмысленным или как-нибудь ещё, но я не вижу необходимости думать о смерти.
А. Но ведь это же намеренный самообман!
В. Да хоть бы и так!
А. В таком случае ты тратишь свою жизнь даром. Ведь все прельщения мира служат лишь для того, чтобы вырваться из его тенёт. Не так ли?
В. Прости, но сейчас у меня нет ни малейшей охоты заниматься философскими спекуляциями. Говори что тебе угодно, но меня вполне устраивает моя нынешняя жизнь.
А (с сожалением). Ну что ж…
В. Пока мы вели этот нелепый спор, совсем стемнело. Пора идти.
А. Да.
В. Подай-ка мне плащ-невидимку. (А передаёт плащ В. В надевает его и становится невидимым. Слышен только его голос.) Ну пошли.
А (тоже надевает плащ и становится невидимым. Звучит только его голос). Уже выпала вечерняя роса.
* * *Звучат одни голоса. Сцена погружена во мрак.
Голос А. Какая темень!
Голос В. Я чуть не наступил на подол твоего плаща.
Голос А. Слышишь плеск воды в фонтане?
Голос В. Да. Мы уже у балкона.
* * *На сцене множество обнажённых женщин. Они сидят, стоят, лежат. В помещении полумрак.
– Ну где же он?
– Вот уже и луна зашла.
– А его всё нет и нет.
– Скорей бы услышать его голос!
– Обидно, что я не видела его, а только слышала голос.
– Зато я чувствовала его прикосновения.
– Сначала я ужасно испугалась.
– А я вообще дрожала всю ночь.
– И я тоже.
– А он так ласково сказал: «Не нужно дрожать».
– Да, да.
– От этого мне сделалось ещё страшнее.
– Как наша роженица? Уже разрешилась от бремени?
– Да, только что.
– Представляю себе, как она счастлива.
– Малыш прелестный.
– Я тоже хочу стать матерью.
– А я – нет. У меня нет ни малейшего желания стать матерью.
– Неужели?
– Конечно. Что в этом хорошего? Мужские ласки – вот это действительно приятно!
– Пожалуй…
Голос А. Я вижу, у вас всё ещё горит свет. Как прекрасны ваши тела под пологом из голубого шёлкового газа!
– Ах, он уже здесь!
– Ну же, иди ко мне!
– Нет уж, сегодня ночью побудь со мной!
Голос А. О, у тебя на руке золотой браслет.
– Да, а что?
Голос В. Неважно… Твои волосы пахнут жасмином.
– Да.
Голос А. Ты всё ещё дрожишь.
– Это от радости.
– Иди же ко мне!
– Ты всё ещё там?
Голос В. Как нежны твои руки!
– Пусть твои ласки никогда не кончаются.
– Я не хочу, чтобы сегодня ночью ты был с другой.
– Обещай, что останешься со мной. Обещаешь?
– А! А-а!
Голоса женщин смолкают, постепенно переходя в тихие стоны блаженства.
Сцена погружается в тишину. Вбегают стражники, вооружённые копьями. Слышатся голоса стражников.
– Вот здесь следы!
– И здесь тоже!
– Видно, он побежал в том направлении.
– Держите его! Держите его!
Суматоха. Женщины с криком разбегаются. Стражники снуют туда-сюда в поисках следов. Светильники гаснут, и сцена погружается во мрак.
* * *Появляются А и В в плащах. С противоположной стороны выходит мужчина в чёрной маске. На сцене полумрак.
А и В. Кто здесь?
Мужчина. Не думаю, что вы забыли мой голос.
А и В. Кто ты?
Мужчина. Я – смерть.
А и В. Смерть?
Мужчина. Не нужно так пугаться. Я был, я есть, я пребуду вовек. Если о ком-то и можно сказать, что он действительно существует, так это я.
А. Что тебе нужно?
Мужчина. То же, что и всегда.
В. Так вот зачем ты пожаловал. Вот зачем…
А. Ну что ж, я ждал тебя. Сейчас ты откроешь своё лицо. Можешь забирать мою жизнь.
Мужчина (обращаясь к В). А ты ждал моего прихода?
В. Нет, не ждал. Я хочу жить. Дай мне пожить ещё немного! Я ещё молод. Кровь в моих жилах ещё не остыла. Прошу тебя, дай мне ещё немного насладиться жизнью!
Мужчина. Тебе должно быть известно, что меня ещё ни разу не тронули чьи-либо мольбы.
В (в отчаянии). Неужели я должен умереть? О, неужели я вправду должен умереть?
Мужчина. Ты и так давно уже мертвец – с тех пор, как себя помнишь. И если всё это время ты имел возможность видеть солнце, то только по моей милости.
В. Не я один. Рождаясь на свет, каждый человек несёт на себе печать смерти. Такова участь всех людей.
Мужчина. Я не это имел в виду. До сегодняшнего дня ты не вспоминал обо мне. Ты не слышал моего дыхания. Пытаясь вырваться из сети заблуждений, ты предавался наслаждениям и не отдавал себе отчёта в том, что сами эти наслаждения – всего лишь иллюзия, обман. Когда ты забывал обо мне, твоя душа испытывала голод. Голодная же душа всегда взыскует меня. Стараясь избежать встречи со мной, ты лишь приближал её.
В. А-а!
Мужчина. Я не тот, кто всё уничтожает. Я тот, кто рождает жизнь. А ты забыл обо мне, прародителе всего сущего. Забыть меня означает забыть жизнь. Человек, забывший жизнь, должен погибнуть.
В. A-а! (Падает замертво.)
Мужчина (смеётся). Какой глупец! (Обращаясь к А.) Не бойся меня. Подойди поближе.
А. Чего же ты медлишь? Я не трус и не боюсь тебя.
Мужчина. Ты хотел увидеть моё лицо, не правда ли? Уже светает. Посмотри же на меня хорошенько.
А. Неужели это твоё лицо? Я не знал, что оно так прекрасно.
Мужчина. Я пришёл не за тобой.
А. Отчего же? Я ждал тебя. Я не знаю ничего, кроме тебя. Мне незачем жить. Возьми мою жизнь и избавь меня от страданий.
Третий голос. Что за вздор! Хорошенько вглядись в моё лицо. Я оставил тебе жизнь, потому что ты не забывал обо мне. Только не думай, что я одобряю все твои поступки. Посмотри же на меня хорошенько. Ты понял свою ошибку? Отныне, будешь ли ты жить или умрёшь, зависит от тебя самого.
А. Твоё лицо становится всё моложе…
Третий голос (тихо). А вот и рассвет. Войди же вместе со мной в большой мир.
* * *Освещённые лучами утренней зари, мужчина в чёрной маске и А уходят со сцены.
Стражники уносят труп В. На его обнажённом теле видны раны.
Из легенды о бодхисатве Нагарджуне
Верность
Маэдзима Ринъэмон
Едва Итакура Кацутоси, состоящий главою ведомства дворцовых построек, стал оправляться после долгой болезни, как его одолело тяжелейшее нервное расстройство: то у него онемеет плечо, то разболится голова. Даже любимое занятие – чтение – теперь стало ему в тягость. Услышав шаги в коридоре или голоса домочадцев, он тотчас терял нить повествования. Это болезненное состояние постепенно обострялось, и вскоре дело дошло до того, что любая малость могла вывести его из душевного равновесия.
Достаточно было ему увидеть золотую роспись на лаковом подносе для курительных принадлежностей в виде вьющихся стеблей и листьев, как его охватывала тревога. Предметы с заострёнными концами: скажем, костяные палочки для еды или бронзовые щипцы для углей – приводили его в сильное беспокойство. Наконец, даже угол циновки, где сходятся края кромки, или четыре угла на потолке повергали его в такое же мучительное состояние, какое испытывает человек при виде занесённого над ним ножа.
Целыми днями Итакура с мрачным видом сидел в своей комнате. Решительно всё причиняло ему страдание. «Уж лучше бы вовсе не сознавать, что со мной происходит», – не раз думал он, но вконец расшатавшиеся нервы не давали ему погрузиться в забытьё. Точно муравей, оказавшийся в опасном соседстве с прожорливой личинкой, он в растерянности оглядывал своё окружение. Окружение же его состояло из одних «наследственных вассалов», которые совершенно не понимали его состояния и лишь для вида беспокоились о его здоровье. «Я страдаю, и нет никого, кто посочувствовал бы мне», – думал Итакура, и от этого на сердце у него становилось ещё тяжелее.
Равнодушие окружающих усугубляло его недуг. Итакура раздражался по всякому поводу и, случалось, настолько возвышал голос, что было слышно в соседних усадьбах. Иной раз он даже хватался за меч. В такие минуты в нём трудно было узнать прежнего Итакуру. Его жёлтое лицо с впалыми щеками сводила судорога, в глазах пылала ярость. Когда приступ бывал особенно силён, он подносил дрожащие руки к вискам и начинал рвать на себе волосы. Приближённые видели в этом признак безумия и старались держаться от него подальше.
Уж не сходит ли он с ума? – в страхе думал и сам Итакура. Он чувствовал, что окружающие считают именно так, и ненавидел их за это. Но что он мог поделать с собственным страхом? После каждого очередного припадка его охватывала гнетущая тоска, и вот тогда, словно молния, его пронзал страх, к которому примешивалась тревога от осознания того, что сам по себе страх безумия служит предвестником оного. «Что, если я и впрямь сойду с ума?» – спрашивал себя Итакура, и от этой мысли у него темнело в глазах.
Владевший Итакурой страх до известной степени заглушался раздражением, которое он испытывал постоянно, по всякому поводу. Вместе с тем раздражение зачастую заставляло его ещё острее ощущать страх. Образовался некий замкнутый круг, в котором страждущая душа Итакуры металась, подобно кошке, пытающейся поймать собственный хвост.
Состояние Итакуры внушало немалое беспокойство его приближённым, и в первую очередь Маэдзиме Ринъэмону.
Хотя Ринъэмон числился вассалом Итакуры, на деле был представителем главы рода, и Итакуре приходилось с ним считаться. Это был человек богатырского сложения, крепкий, румяный, не ведающий, что такое болезни. При этом мало кто из самураев в доме мог превзойти его по части учёности и владения воинскими искусствами. По этой причине он состоял советником при Итакуре и выполнял эту роль столь искусно, что снискал прозвище Второго Окубо Хикодзы.
С тех пор как сумасбродство Итакуры стало очевидно для всех, Ринъэмон потерял сон, терзаясь душой за судьбу своего господина. Поскольку во дворце считали, что болезнь Итакуры миновала, ему предстояло в скором времени явиться туда. Но кто мог поручиться, что в нынешнем своём состоянии он не допустит какой-нибудь грубой выходки по отношению к присутствующим там даймё и хатамото? А если, чего доброго, дело дойдёт до кровопролития, клан Итакура с его довольствием в семь тысяч коку будет стёрт с лица земли. Разве не поучительный пример – ссора между феодальными домами Хотта и Инаба[2]?
Эти мысли приводили Ринъэмона в ужас. И всё же он не был склонён считать состояние Итакуры безнадёжным: в отличие от «недугов тела» это был всего лишь «недуг души», и, точно так же, как в своё время Ринъэмон увещевал своего господина против своеволия и чрезмерной роскоши, он решил врачевать его нервное расстройство с помощью увещеваний.
При каждом удобном случае Ринъэмон старался преподать своему господину урок здравого смысла, однако от этого раздражение Итакуры не проходило, а напротив: чем больше его увещевали, тем больше он раздражался в ответ и тем сильнее становились приступы безумия. Однажды он чуть не заколол своего советника мечом. «Негодяй, ты забыл о том, что я – твой господин! Лишь из уважения к главному дому я оставляю тебя в живых!» – вскричал Итакура, и в глазах его при этом сверкал не только гнев. Ринъэмон прочёл в них ещё и неприкрытую ненависть.
Так в результате предпринятой Ринъэмоном попытки урезонить Итакуру в и без того сложные и запутанные отношения, существовавшие между вассалом и господином, вкралось нечто новое и зловещее. И дело было не только в том, что Итакура возненавидел Ринъэмона: в душе Ринъэмона тоже поселилась ненависть к Итакуре. Сам он, разумеется, этого не сознавал. По крайней мере, до последнего времени он верил, что его преданность Итакуре осталась неизменной. «Господин есть господин, вассал есть вассал» – таков «путь», указанный Мэн-цзы. Но помимо этого «пути» существует ещё и «путь» естественных человеческих чувств. Однако Ринъэмону не хотелось это признавать…
Он стремился до конца исполнить свой вассальный долг. Убедившись на горьком опыте, что дружеские его увещевания не имеют успеха, он решился прибегнуть к последнему средству, которое до сих пор прятал в сокровенных тайниках души. Средство это состояло в том, чтобы насильственно отправить безумца на покой и найти ему достойного преемника из рода Итакура.
На первом месте должны стоять интересы рода, считал Ринъэмон, и в случае необходимости его господин должен быть принесён в жертву этим интересам. Род Итакура был одним из самых знаменитых и со времён его основателя Итакуры Сиродзаэмона Кацусигэ ни разу не запятнал себя бесчестьем. Старший сын и наследник Кацусигэ – Матадзаэмон Сигэмунэ – пошёл по стопам отца и совершил немало славных дел на поприще наместника сёгуна в столице. Младший брат Сигэмунэ – Мондо Сигэмаса – успешно справился с миссией личного представителя сёгуна на переговорах о перемирии во время осады Осакского замка в девятнадцатом году эры Кэйтё, а затем, в четырнадцатом году эры Канъэй[3], во время Симабарского восстания[4] встал во главе западных войск и, разгромив мятежников, водрузил знамя сёгуна в ставке побеждённого Амакусы[5]. Можно ли допустить, чтобы после всего этого чести столь прославленного рода был нанесён урон? Как посмеет он, Ринъэмон, взглянуть на том свете в глаза основателю рода Итакура?
В поисках преемника Ринъэмон принялся перебирать в уме представителей семейства Итакура. К счастью, у правителя земли Садо Итакуры Кацукиё, входившего в совет старейшин при сёгуне, было три сына. Если одного из них сделать приёмным сыном и наследником безумца, все внешние приличия будут соблюдены. Разумеется, до поры до времени это следует сохранить в тайне от больного Итакуры и его супруги. Как только в голове Ринъэмона созрел этот план, он почувствовал себя так, словно после долгого блуждания во мраке вышел на свет. Но при этом в душе его поселилась непонятная, доселе неведомая ему тоска. «Это необходимо ради спасения чести рода», – убеждал себя Ринъэмон и всякий раз ловил на том, что словно бы оправдывается. Смутное ощущение вины стало так же неотделимо от него, как мерцающая кромка – от лунного диска.
Истерзанный болезнью Итакура ненавидел Ринъэмона – ненавидел за его несокрушимое здоровье; за ту власть, которой он обладал по праву человека, приставленного к нему главным домом; наконец, за верность роду, интересы которого тот ставил превыше всего. «Ты забыл о том, что я – твой господин!» – в этих словах Итакуры тлел чадящий огонь ненависти.
А тут ещё совершенно неожиданно жена сообщила Итакуре, что до неё дошёл слух, будто Ринъэмон замышляет насильно отправить своего господина на покой и на его место посадить сына правителя земли Садо. Неудивительно, что от этого известия Итакура пришёл в бешенство.
Возможно, Ринъэмон в самом деле печётся об интересах рода. Но какова цена верности вассала, если во имя рода он пренебрегает интересами господина, на службе у которого состоит? Да и какие могут быть у него основания опасаться за судьбу рода? Из-за каких-то вздорных опасений он задумал насильно отправить его, Итакуру, на покой! Кто знает, быть может, за этой показной верностью кроется честолюбивый замысел захватить власть над домом Итакура? Да за такое коварство любого наказания будет мало.