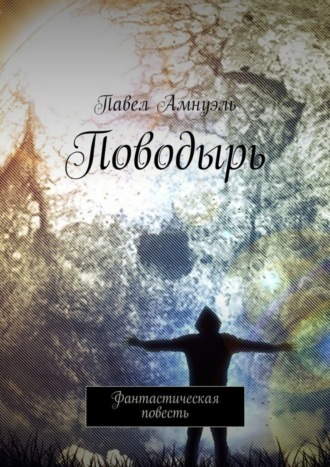
Полная версия
Поводырь. Фантастическая повесть

Поводырь
Фантастическая повесть
Павел Амнуэль
Корректор А. Брайнин
© Павел Амнуэль, 2018
ISBN 978-5-4493-9482-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Он сидел в последнем ряду, и его почти не было видно за грузным широкоплечим мужчиной – Флоресом с кафедры политологии, заглянувшим случайно, так он сам сказал, когда мы столкнулись в дверях. «Название у вашей лекции странное, доктор Голдберг, невычислимые функции. Я думал, что математика – это когда вычисляют».
Молодой человек, время от времени выглядывавший из-за плеча Флореса, смотрел на меня так, будто я был его врагом. Однажды – в середине лекции, – обратив на него внимание, я не мог оторвать взгляда, и когда он исчезал за спиной Флореса, мне казалось, что я продолжал его видеть. Странное ощущение, не из приятных, и отвлекало, к тому же.
– Теперь вопросы, пожалуйста, – произнес я традиционную фразу, уверенный почему-то, что первым поднимет руку молодой человек в последнем ряду. И спросит, конечно, о том, как относятся к моим идеям коллеги, не считают ли они эти идеи несколько… гм… вздорными, хотя и не противоречащими современной квантовой физике.
Однако молодой человек не проявлял активности, и я скорее механически, чем с ощущением интересной дискуссии, ответил на вопросы студентов.
– Больше вопросов нет? Спасибо за внимание.
Тогда-то, как на аукционе перед третьим ударом молотка аукциониста, поднялась из последнего ряда одинокая рука, и выглянувший из-за плеча Флореса мужчина сумел огорошить меня вопросом, не имевшим никакого отношения ни к невычислимым функциям, ни к инфинитному анализу, ни вообще к математике или физике. Никто вопроса не понял, а многие и не расслышали, поскольку спешили к выходу.
– Скажите, доктор Голдберг, что вы думаете о случае в заливе Морского змея?
Флорес поднялся, на мгновение загородив от меня вопрошавшего, помахал мне рукой и двинулся к выходу.
Я мог и не отвечать: отведенное мне время закончилось. Но несколько студентов остановились в проходе, обернулись и навострили уши.
Я выключил и закрыл лэптоп, отсоединил кабель проектора, спрятал компьютер в чехол, перебросил через плечо ремень и только после этого поднял взгляд, надеясь, что, не получив ответа, молодой человек покинул аудиторию. Студентом он не был – мне, во всяком случае, в коридорах или аудиториях не попадался, я бы запомнил.
Он стоял в последнем ряду, сложив на груди руки, и ждал ответа.
– Простите, – сказал я, – не знаю, о чем вы спрашиваете.
Мне издалека было видно, как он смутился.
– Я иногда путаю… – Говорил он будто сам с собой, но смотрел мне в глаза, и я поймал себя на том, что иду к нему, хотя нужно было мне в другую сторону: к двери, выходившей в южный, а не восточный коридор.
У молодого человека были прямые светлые волосы, расчесанные на косой пробор, чуть удлиненное лицо, нос коротковатый и будто нарисованный. Лет ему я бы дал тридцать два – тридцать пять. Наверно, он много путешествовал (загар, крепкие мышцы, выправка). Может, служил в армии – в общем, принадлежал совсем не к моему кругу людей, физически обычно расслабленных и уделявших внешнему виду не больше времени, чем требовалось, чтобы бодрым шагом пройтись утром от дома до кабинета в одном из зданий Йельского университета.
– …На самом деле, – закончил он фразу, когда я приблизился на такое расстояние, чтобы можно было говорить, не повышая голоса и не опасаясь, что услышат посторонние, – я имел в виду не Морского змея, а…
Он запнулся.
– Черепаху, – закончил я механически, не подумав, что совершаю самую большую ошибку в жизни. Название это я третий год старался не вспоминать, и то, что сейчас произнес его вслух, означало… Не знаю, что оно означало – слово вырвалось непроизвольно, а точнее, вытянул его из меня взгляд стоявшего напротив человека, удовлетворенно кивнувшего, когда я прикусил себе язык.
– Залив Черепахи, точно. В гавани Брэндфорда. – Он еще раз кивнул и протянул руку, рассматривая меня настороженно-недоверчиво-подозрительным взглядом. – Меня зовут Лев Поляков. Не Полякофф, как здесь принято, с двумя «ф», а с твердым «в». Вы родом из России, доктор? То есть, ваши родители?
Что он знал о заливе Черепахи? Почему спрашивал?
– Вы здесь учитесь или работаете? – Я не мог задать более глупого вопроса, но, когда хочешь перевести разговор, вопросы обычно такими и получаются.
Он покачал головой: ни то, мол, ни другое. Он специально приехал на мою лекцию, чтобы задать вопрос, которого я не ждал?
– Я прочитал пару ваших работ, доктор Голдберг, и, прошу прощения, почти ничего не понял. – Теперь он смотрел на меня взглядом скорее смущенным, чем недоверчивым.
– Если вы не специалист, – пробормотал я, думая о другом. Что он знал? Почему спросил?
– Не специалист, – согласился он. – Я был бы очень благодарен, доктор Голдберг, если бы вы разъяснили некоторые положения вашей теории, я имею в виду инфинитный анализ квантовой запутанности, а я взамен сообщил бы то, что помню о происшествии в заливе Черепахи. Помню я немного, но все же…
Никто не мог этого знать! Мы были там вдвоем. Двое на всем белом свете. Двое во всей Вселенной – так мы чувствовали, так оно и было на самом деле.
– Память избирательна и непредсказуема, – продолжал он, – и без знания вашей теории идентичных миров моя работа – просто интуитивная практика, не более того.
Правильно построенная фраза. Наверняка этот человек сначала сложил ее в уме, потому что английский не был для него родным…
– Может, лучше по-русски? – предложил я.
– Нет-нет. По-английски доверчивее.
Слово показалось мне не очень уместным, но поправлять я Полякова не стал, просто не успел, потому что последовавшее предложение заставило меня подумать о далеко не очевидных, но возможных последствиях нашего знакомства.
– Мы можем поговорить у вас дома, доктор Голдберг. Там нам никто не помешает, поскольку живете вы один.
Этот человек поражал меня все больше! Верно, я жил один, но откуда Поляков мог знать об этом?
Я подумал, что мы слишком долго топчемся на месте – в буквальном и переносном смыслах.
– Вы на машине? – спросил я, и мой визави поднял глаза горе, будто предположение о том, что у него может быть машина, есть преступление против логики и здравого смысла.
– Хорошо, – сказал я, – поговорим у меня.
Он повернулся ко мне спиной и направился к выходу, не беспокоясь о том, что я мог, вообще-то, не последовать за ним, а выйти в другую дверь.
Меня неприятно удивило, что, выйдя из здания, он пошел прямо к моей машине, которую я сегодня пристроил не на парковке, как обычно, а в тени раскидистого вяза у пожарной лестницы.
Похоже, он следил за мной. Возможно, не первый день.
Я сел за руль, он молча уселся рядом, пристегнулся и сложил руки на груди.
– Кто вы? – вырвалось у меня, потому что мне на миг показалось, что рядом сидит не молодой мужчина в спортивном костюме, а нематериальная сущность, платоновская идея, тень на стене пещеры.
– Мое имя Лев Поляков. – Он тоже повернулся в кресле и посмотрел мне в глаза. – Обычно называют Лоцманом, такая у меня профессия, но я предпочитаю более правильное русское слово: Поводырь.
Он произнес эту фразу по-русски без малейшего акцента, и я тоже перешел на русский – не потому, что так мне было легче, наоборот, по-русски мне тоже приходилось сначала составлять фразу в уме и только потом обращать обдуманное в звуки – слово, действительно, не воробей.
– Поводырь? – повторил я. – Это прозвище?
Он не был похож на лоцмана, какими я их представлял по фильмам и книгам. Мысленно я примерил на него морскую фуражку и отбросил в сторону: не сочеталось. Он был сухопутным человеком, я мог дать голову на отсечение: если и выходил когда-нибудь в море, то на прогулочном катере в гавани Брэндфорда.
– Профессия, – сказал он, – хотя правильнее было бы назвать это образом жизни.
Не люблю ложной многозначительности, а в том, что и, главное, как он говорил, многозначительность переливалась через край, как манная каша, которую мне в детстве варила моя русская бабушка, постоянно забывая выключить газ и спохватываясь, когда каша выползала из кастрюльки и шипением докладывала о том, что уже готова.
* * *
От факультета до моего коттеджа семь минут езды. Машина свернула на Лорел-стрит и остановилась у ворот, открывшихся в ответ на сигнал прибытия. Выключив двигатель, я обнаружил, что мистер Поляков уже стоит у двери и собирается нажать на кнопку звонка – проку от этого не было бы никакого, звонок не работал еще с тех пор, как дверь снабдили идентификатором.
– Не стоит, – сказал я. – Вам она даже не ответит.
– Конечно, – пробормотал он. – Всегда забываю…
Мы вошли в холл, я провел Полякова в гостиную, усадил в кресло, тяжело вздохнувшее от необходимости принять непривычную форму, и сказал:
– Я принесу напитки и легкую закуску, а вы тем временем подумайте над вопросом – собственно, единственным, который меня занимает: почему вы упомянули залив Черепахи?
Поляков промолчал, и я вышел на кухню, где приготовил пару бутербродов с окороком, налил вино (мое любимое «шардонне») в два высоких бокала, раздумывая о том, что в жизни не попадал в более нелепую ситуацию. Почему я пригласил к себе человека, которого никогда прежде не видел? Почему там же, в аудитории, не потребовал ответа на вопрос о заливе Черепахи? И еще: мне казалось, что Полякова я где-то видел. Или кого-то похожего. Где мы могли встречаться? Точно не в университете. В городе? В полиции? Гадать было бессмысленно – память не выдавала своих секретов сразу.
Когда я вернулся в гостиную, Поляков сидел в той же позе, в какой я его оставил, и даже взгляд, как мне показалось, был направлен в ту же точку. Я поставил на стол поднос и спросил:
– Залив Черепахи – что вы знаете об этом?
Поляков ответил, продолжая разглядывать едва заметное серое пятно на стене:
– Я возвращался после обследования фарватера. Интуитивно… Я вам говорил, что в моей профессии нечего делать без интуиции? Она меня и вывела на мелководье. То, что этот остров назывался заливом Черепахи, я понял потом. Точнее, вспомнил.
Фарватер? На суше? Остров, который называется заливом?
– Простите, – пробормотал он, переведя на меня взгляд. – Я что-то не то сказал?
– Вы не ответили на вопрос.
– Ну как же… Хотя… да. Я не могу ответить точно. В памяти, конечно, все сохранилось, но у памяти поводырей свои особенности, вот почему я хочу, чтобы вы преподали мне основы теории квантовой запутанности и идентичных ветвей, иначе мы не разберемся в том, что важно для нас обоих.
Нанизыванием слова на слово он, кажется, пытался скрыть то ли неуверенность, то ли нежелание отвечать на вопрос.
– Что вы знаете о заливе Черепахи?
– Я же сказал! В тот день я обследовал новый для меня фарватер. Возвращаясь, вышел на мелководье. Это тоже земля, конечно. Идея в том, что явление должно описываться вашими уравнениями и теорией невычислимых функций. Вы мне должны объяснить, что к чему, а не я – вам.
– Залив Черепахи! – вернул я его в русло разговора.
– Да… – Он помедлил. – То, что помню… Я подумал, что могу позволить себе небольшой отдых, прежде чем вернуться домой через Ардейл.
– Ардейл? – Поблизости от Нью-Хейвена не был населенного пункта с таким названием. – Вы можете сказать, наконец, что видели? – Я больше не мог сдерживаться.
Он поднял на меня виноватый взгляд.
– Со стороны домиков, похожих на склады, появились двое: мужчина и женщина. Вошли в воду по щиколотку, мужчина подвернул брюки, а женщина была в короткой юбке, она сняла туфли и несла в руке. Мужчина был на голову выше спутницы, рубашка светло-зеленая навыпуск, волосы темные, гладко зачесанные назад, нос немного великоват для его лица…
– Спасибо, – сухо сказал я. – Мне приходилось смотреть на себя в зеркало.
– Ну да… Женщину вы тоже знаете.
Я промолчал.
– Они ссорились и не обращали на меня внимания, – продолжал Поляков.
Ссорились, да. Я впервые вышел из себя, накричал, и она…
– Женщина пошла навстречу волне.
А я стоял, смотрел и еще ничего не понимал. Как и она.
– Я сразу представил, что произойдет. – Поляков отвернулся от меня и смотрел в пустой проем стены, будто видел там, как на белом экране, кадры из старинного немого фильма. – Нужно было уходить, но у меня возникло ощущение, что я на капитанском мостике, корабль несет на камни, а за борт упал человек, его можно спасти, дав полный назад, но тогда корабль почти наверняка выбросит на берег…
О чем он говорил?
– Женщина входила все дальше в воду, волна прямо перед ней поднялась на высоту двухэтажного дома и опрокинула, как куклу… Всё, – виновато произнес он. – Больше не помню.
Сенту так и не нашли. Искали, как мне потом сказали в полиции, весь вечер, а потом с утра и целый день. Ничего. Был шторм, тело унесло в бухту, а оттуда, скорее всего, в океан. Я ничего этого не помнил. Только то, что мы начали ссориться еще по дороге к заливу. Дальше – провал.
– Значит, вы там были.
Он кивнул.
– Куда ж вы делись? – враждебно спросил я.
– Домой, конечно, – глухо проговорил он, и неожиданно его речь опять стала сбивчивой. – Но не уверен, что… Я и Ардейл не помню, потому что перенервничал на берегу. Я ж говорю: память у поводырей профессиональная и на мелководье сбивается. Я потому и хотел, чтобы вы… Собственно, это все.
– Полиция искала свидетелей. Хотя бы одного. Мне сказали, что службу спасения вызвал я, звонок был с моего мобильного, и голос мой, мне дали прослушать. Но я не помню! Вы там были? Не понимаю.
– Я тоже, – буркнул он. – Потому и пришел на лекцию: думал, вы сможете объяснить. Вы занимаетесь инфинитным анализом, невычислимыми процессами…
– Функциями, – поправил я.
– Что? Да… А также квантовой запутанностью, и по классификации многомирий у вас есть работа. Без всего этого, я уже говорил, лоционирование представляет собой не науку, а набор интуитивных практик.
Я никогда не слышал о лоционировании и не знал никого, кроме математиков-модернистов, кого инфинитный анализ интересовал бы в профессиональном смысле, а не как направление, никому, в принципе, не нужное, но чрезвычайно интересное и непонятно-волнующее. На мои лекции ходили не для того, чтобы приобщиться, а чтобы размять мозги – как на представления Войцеховича, извлекавшего корни восьмой степени из пятнадцатизначных чисел и запоминавшего с одного взгляда до семи страниц текста любой сложности и на любом языке.
– Послушайте… Лев, да? Послушайте, Лев, так мы не поймем друг друга. Я не знаю, кто вы, как оказались на берегу залива в тот вечер, не знаю, что такое лоционирование…
– Я к вам и пришел, чтобы вы объяснили – не на пальцах, а математически, Это только вы сможете. На одной интуиции не получится… В общем, тупик, – неожиданно закончил он и посмотрел на часы, висевшие над дверью в кухню.
– Вы торопитесь?
– На мелководье времени всегда больше, чем на островах, это же земля, – сказал он непонятно.
Я пожал плечами.
– Хорошо, – вздохнул Поляков. – Вы не знаете, кто я? Знаете, но не можете вспомнить. Все та же проблема.
Я не стал говорить о своем ощущении. Может, мы действительно встречались?
– Родился я в России, – начал он, глядя поверх моей головы, – в тысяча девятьсот девяносто пятом году.
– О, – заметил я. – Вы на одиннадцать лет старше меня, а выглядите моложе.
Пропустив замечание мимо ушей, он продолжал:
– Жили мы в Москве, и все мои предки до пятого колена – дальше я не заглядывал – коренные москвичи. Учился я в остужевской школе, это марка, верно? Мои способности к лоционированию проявились рано, я еще в школу не ходил, но тогда, конечно, не понимал… Обычно лоцманский талант проявляется годам к шестнадцати у мальчиков, а у девочек чуть раньше – возможно, это связано с особенностями созревания, но толком никто ничего сказать не может. Как-то был урок истории, мы проходили середину двадцатого века, первые звездные сходы, биографию Одена, его поход через пояс Оорта, гибель, и я вдруг явственно увидел… как говорится, перед моим умственным взором возник весь фарватер, и глубину я почувствовал отчетливо, что редко бывает в таком возрасте, я и сказал, что идти надо было через остров Вамлея, я тогда плохо знал – точнее, вообще не знал – навигационные лоции, понятия не имел, что первый остров Вамлей обнаружил в девятьсот шестьдесят седьмом, через двадцать лет после гибели Одена. Помню, учитель посмотрел на меня с удивлением и сказал: «Лева, останься после уроков, нам нужно серьезно поговорить». Он мне и рассказал о моем призвании. Прежде-то у меня было спонтанно, я не понимал…
– Извините, – прервал я Полякова. – Вы сюжет фантастической истории рассказываете?
Он закрыл рот и улыбнулся внутренне, как это бывает: лицо вдруг озаряется, меняется взгляд, это трудно описать словами, словами вообще много чего описать трудно, а то и невозможно. Понимать понимаешь, знать знаешь, а словами объяснить не можешь. Так я когда-то мучился, пытаясь высказать Сенте все, что чувствовал. Не смог, а сейчас и вспоминать об этом не нужно.
– Я думал, – сказал он, – что в доме физика-теоретика увижу много книг – по специальности хотя бы.
– У меня была большая бумажная библиотека… то есть по сравнению с электронной мелочь, конечно, три с половиной тысячи книг. В моей прежней квартире они занимали полторы стены. Пыли было… Постепенно я их раздал в библиотеки, не помню уж, в какие.
– Как все по-разному, – вздохнул Поляков. – Я давно в профессии, но все равно не перестаю удивляться.
– Чему?
– Многообразию идентичных миров. Вам-то это должно быть понятно… или… я неточно выразился… Извините, что отнимаю время… Но, видите ли, у нас нет развитой теории многомирий, и тому, что я умею, невозможно научиться. Я прихожу сюда второй уже раз, и это не случайно. Сначала тот залив. Потом… Перед тем, как пойти на лекцию, я побывал в университетской библиотеке, искал по профессии… Поразительно! – неожиданно воскликнул он. – На дворе двадцать первый век, а у вас ракеты на химическом топливе, единственная станция на спутниковой орбите, вы не были на Марсе, не говорю о дальних планетах! И, в то же время, о многомирии вам известно куда больше, чем нам, я имею в виду теоретические разработки.
Умел же этот человек говорить много, но не сказать ничего, нагнетать интерес, не переходя к сути! Поляков поймал мой раздраженный взгляд и спросил:
– Сами-то вы когда-нибудь были в космосе?
– Нет, конечно. Я физик, а не астронавт. И космический туризм не для меня – слишком дорого.
– Хотя… – добавил я, – в детстве мечтал о космосе. Даже как-то в классе, кажется, девятом, написал… точнее, начал и бросил… рассказ о том, как в далеком будущем герой перемещается от звезды к звезде на велосипеде, педали крутит, и от этого вырабатывается энергия, которая… не знаю… фантазия, в общем.
– Велосипед, – протянул Поляков. – Любопытно. Неужели… – Он не закончил фразу.
– Что? – спросил я.
– Это мне облегчает… – улыбнулся он. – Вы не бывали в космосе. Хотите, покажу?
Вопрос прозвучал неожиданно, и я ответил «Конечно!», не подумав. Мне показалось, что я начал понимать, кто этот человек, и даже относительно его странной профессии кое-что я себе уяснил – что-то, чего не смог бы выразить словами. Поляков произнес во время своей сумбурной речи несколько ключевых для меня слов, и я боялся, что догадка окажется верной, и хотел, чтобы она была правильной, и еще неожиданное ощущение прорастало во мне: желание почувствовать такое, чего никогда прежде не чувствовал. Вспомнились слова из старой повести Грина «Бегущая по волнам» – о Несбывшемся, которое приходит внезапно, зовет за собой, и ты идешь на зов, позабыв обо всем на свете.
– Конечно, – повторил я и добавил: – Если я вас правильно понял.
Он поднял брови:
– Иногда я сам понимаю себя неправильно. Такой характер.
– У вас совсем нет ракет? Ни химических, ни ядерных… никаких? – Вопрос я задал прежде, чем успел подумать о том, насколько он бессмыслен.
– В космос на ракетах не летают, – буркнул Поляков. Кажется, он себя внутренне к чему-то готовил, и мои вопросы ему мешали, но он все-таки ответил. – А в атмосфере да, чтобы оставаться в мире.
Он поднялся и потянулся за сумкой, оставленной рядом с журнальным столиком. С такими заплечными сумками ходят студенты и некоторые преподаватели, разве что цвет был слишком ярким. Поляков что-то в сумке нащупывал, шепча слова, казавшиеся мне знакомыми, но воспроизвести его речь я бы не смог, а смысла не понимал вовсе.
Я тоже поднялся, соображая, нужно ли что-то брать с собой, далеко ли мы собрались, что все это означает, и не подвергся ли я гипнозу.
– Мы ненадолго, – сказал Поляков, закрыв сумку и перебросив ремешок через плечо. – Для иллюстрации фарватера. После этого вы втолкуете мне азы инфинитного анализа.
– Фарватер? – переспросил я.
– Линия наименьшего изменения, – объяснил он, ничего не объяснив. – Как тропинка, заросшая травой: никому не видна, только опытному глазу или интуиционисту, то есть лоцману. Поводырю.
– Ничего не понял, – сообщил я.
– Тем не менее, – улыбнулся Поляков, – именно возможности движения в фарватере описывает ваша теория. Сначала каботажное проведение, мелководье, это еще не космос, но…
Он оборвал себя и сказал:
– Поехали.
Совсем, как Гагарин. Даже интонации были такими же, как в документальном ролике.
* * *
Никуда мы, конечно, не поехали. Поляков затягивал ремешок на сумке, а я вспомнил, что завтра у меня с утра практические занятия по интуитивистике бесконечности в группе Валло, и хорошо бы вечером смотаться на верхний ярус Проведо, посмотреть представление конкистадоров.
Мысль показалась мне странной, но, в то же время, естественной. Она была продолжением предыдущей, а предыдущая…
Я будто споткнулся. Ухватился за край стола, потому что… нет, голова не закружилась, я прочно стоял на ногах. Закружились мысли. Память раздвоилась, и я вспомнил, как мы с Поляковым ехали ко мне домой, и как я (в то же самое время, готов поклясться!) проводил Марию-Луизу до ее коттеджа, поцеловал руку, давая понять, что не прочь зайти на чашку кофе, а она покачала головой и скрылась за дверью.
– С непривычки, – сказал Поляков, внимательно за мной наблюдая, – это сильно выбивает из колеи. Учтите – в смысле памяти я вам ничем помочь не могу, я поводырь, а не психолог. Потому и искал вас, чтобы, изучив теоретические основы, научиться делать то, чего ни один поводырь не умеет. С памятью у нас проблемы, и это, с одной стороны, естественно, однако…
С Мери мы поссорились из-за сущего пустяка. Я это понимал, она это понимала, пустяк стал лишь поводом, все к тому шло, и это мы оба понимали тоже.
Мери… Знакомое имя. Мария-Луиза. Аспирантка? Меня она никогда не интересовала. Мы кивали друг другу при встрече, и у меня (у нее тоже, уверен) не было никаких идей относительно того, чтобы встретиться, посидеть в кафе и уж, тем более…
Я почувствовал, как краска залила лицо: вспомнил наш уик-энд в Йеллоустонском парке. Поляков едва заметно кивнул и сказал со странной интонацией одновременного огорчения и удовлетворения:
– Вероятности наложения эмоционально окрашенных островов достаточно велики, я всегда их избегаю, но сейчас не стал выбирать внеэмоциональные траектории, чтобы вы ощутили… это не очень приятно, по себе сужу.
Я обошел стол (квадратный, хотя в памяти сохранился и круглый) и направился к окну, занавешенному тонким тюлевым занавесом приятного темно-зеленого цвета (вообще-то мне больше нравились жалюзи, но и занавески я выбирал сам, Мария-Луиза вызвалась помочь, утверждая, что женщина в таких делах разбирается больше, но я вежливо ей отказал, мне всегда хотелось, пока я живу один, все решать и делать самому).
Отодвинул занавеску и увидел то, что ожидал. Чего не ожидал – тоже. Вот засада: обе мысли возникли одновременно, оттолкнулись друг от друга и застыли трехмерными проекциями.
Мария-Луиза снимала коттедж напротив моего вот уже почти полгода, нам обоим так было удобнее. Над дверью у нее горел светло-зеленый карниз, освещая дорожку и куст сирени, посаженный предыдущим хозяином. Направляясь к Мери, я каждый раз отрывал ветку…
– Воспоминания? – участливо спросил Поляков.
– Да, – коротко сказал я, глядя на синюю дверь коттеджа и надеясь, что сейчас, как это часто бывало, откроется кухонное окно, Мария-Луиза высунется по пояс с телефоном в руке и начнет мне звонить, увидев мой силуэт за занавеской. Как вчера: мне нужно было готовиться к лекции, а Мери хотелось в кино, я не мог разорваться и предложил заказать фильм в мою гостиную, хотя голограмма, заполнившая все пространство, оставив вне поля только мой стол с компьютером, действовала на нервы, а когда айцелот вцепился в горло кротампу…

