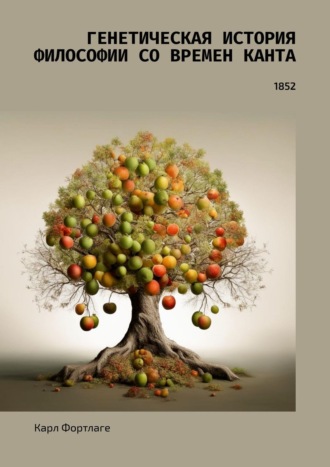
Полная версия
Генетическая история философии со времен Канта. 1852
В синтезе Я и не-Я позиционирование Я не вызывает затруднений, но позиционирование не-Я или невообразимого – вызывает. Это может быть либо не реализовано вообще, либо реализовано только в видимости. В двух принципах, которые предшествуют появлению, оно не реализуется вообще, но там противоположности остаются бесконечно удаленными друг от друга, не соприкасаясь. В визуальном мире она реализуется так, как она вообще может быть реализована, а именно как видимость. Возникновение возникает так, как если бы неустранимое было установлено в Я в соответствии с определенной частью, или как если бы Я было отменено неустранимым в соответствии с определенной частью, или само стало неустранимым. Эта видимость, чье условное существование возникает только при условии постоянной самоаннигиляции моментов времени, называется миром опыта. Его состояние выражено в третьем принципе учения науки, который гласит: Я и не-Я ограничивают друг друга; или: Я противопоставляет в себе делимое Я делимому не-Я. Форма этой оппозиции называется пространством, как пустотная схема, которая вытесняет себя из Я на место не-Я и таким образом примиряет то, что абсолютно несовместимо, с видимостью совместимости, но которая несет в себе зародыш своей гибели при рождении.
Итак, в той мере, в какой не-Я должно появиться в пространстве, в этой степени Я должно исчезнуть в нем, или (поскольку Я – это чистая деятельность) в этой степени страдание Я должно занять место деятельности в Я. Таким образом, кажущаяся реальность не-Я состоит только в реальной привязанности или реальном страдании Я. Насколько оно страдает или страдает, настолько же оно силой отрицает активность в себе или, что то же самое, переносит столько же своей активности в не-Я. Таким образом, нецептивность, помещенная в субъект, есть не-Я или не-деятельность, помещенная в него, а сила (деятельность), помещенная в объект и производящая впечатление, есть Я или деятельность, помещенная в не-Я. Таким образом, в каждом случае мы измеряем степень естественной силы, которая должна быть перенесена в не-Я, в соответствии со степенью страдания, возникающего в не-Я, и понятие силы, воздействующей на нас, есть не что иное, как перевод минусовой величины нашего полученного впечатления в плюсовую величину со стороны не-Я, поскольку каждый минус со стороны не-Я есть плюс со стороны не-Я, и наоборот. Каждое пространство, находящееся за пределами Я, записывается на стороне не-Я, а каждое страдание, которое ощущается в Я как прерывание его силы действия, записывается на стороне не-Я как деятельность. Все это действительно лишь видимость, основанная на необходимой фикции ноумен-схемы, но мы должны помнить, что мир этой видимости – это именно тот мир, в котором мы живем, и что то, что на самом деле является лишь видимостью, в сфере этой видимости, в которой мы видим себя заключенными, принимает ранг физически данного или материально реального.
Деятельность, приписываемая не-Я, переносится в пространство, приписываемое не-Я, которое, в той мере, в какой эта деятельность приписывается ему, получает название внешнего объекта или физического объекта. Рассудочный ум отличает изменяющееся от неизменного и затем формирует понятие материальной субстанции. А именно, интеллект умеет составить такую схему искусственного уравнивания между изменяющимся объемом и изменяющимися проявлениями деятельности, что из их сочетания возникает искусственное постоянное количество, подобно тому как сияющее солнце образует из падающего дождя радугу, которая стоит в глазах наблюдателя непоколебимо, хотя каждая из бесчисленных капель, образующих ее, находится в процессе падения.
Поэтому понятие всей деятельности, которую мы переносим во вселенную, заимствовано из понятия Я. В этом отношении абсолютное «я» заслуживает названия абсолютной и единственной реальности, из которой все остальные вещи черпают свою реальность в той мере, в какой она может быть им приписана. Не-Я, однако, само по себе является простым отрицанием и служит инструментом для рассеивания и излияния реальности, сосредоточенной в абсолютном Я, в безбрежность мира видимостей. Качество чистейшей и непорочной сущности чистой истины, в которой понятие и вещь, позиция и то, что в ней позиционируется, еще не дифференцированы, позиционируется в чистом Я, то есть в illa essentia, quae est ipsa existentia. В не-Я ему противостоит противоположное качество противоречия в самом себе, позитивная неправда как соблазн иллюзорных позиций, а именно кажущаяся позиция непроявленного и реальная непроявленность позитивного. Только здесь вступает категория ограниченности или делимости, а вместе с ней и определения количества. Мир видимости – это мир количества. Это его наиболее существенная и специфическая характеристика, которая отличает его от чистой истины, имеющей лишь качественный характер.
С появлением понятия количества открывается арена видимости и вступает отношение разума, как закон, согласно которому то, что списано с Я, попадает в не-Я и наоборот. Согласно этому закону, то, что в Я называется пространством и ощущением, со стороны не-Я преобразуется в понятия масс и их сил, и сумма реальности распределяется в мире видимости в неизмеримое расширение пространства, в котором Я видит себя ограниченным небольшим местом.
То, посредством чего устанавливается мир видимости и посредством чего Я, хотя и является тотальностью в себе, помещает себя в ограниченную сферу, – это представление. Это витание между двумя несовместимыми вещами, Я и не-Я, благодаря которому состояние Я расширяется до момента восприятия. представление не может выдержать этого дольше мгновения; в дело вступает разум, который в соответствии с мерой ощущений принимает детерминированный объект в детерминированный субъект. Но теперь субъект, заданный как детерминированный, должен быть снова ограничен бесконечным объектом, а значит, и бесконечным. Поскольку этот конфликт Я состоит в чередовании активности воображения, уходящего в бесконечное, и его ограничения рассудком на основе ощущений, он содержит в то же время конфликт Я в себе и с самим собой, а именно: поместить себя одновременно в бесконечное и конечное, в том смысле, что оно то пытается принять бесконечное в форму конечного, то, отброшенное назад, снова помещает его за его пределы, но в тот же момент снова вынуждено повторить попытку. Этот конфликт, воспроизводящийся без остановки в конечном Я через принуждение к объединению несовместимого, называется представлением.
Таким образом, всякий просмотр возникает из конфликта между невозможностью и приостановкой. Приостановка для создания пространства в бесконечность – это приостановка, установленная в Я самим Я, хотя и принудительно, и точно так же не-Я, установленное предельно определяющим рассудком, само есть не что иное, как столь же принудительный продукт самоопределяющегося Я. Активность Я, уходящая в бесконечность, получает импульс, и он загоняется внутрь, получает противоположное направление, а именно от точки импульса к точке Я. Но он снова работает от точки Я к точке импульса и дальше, только для того, чтобы снова быть загнанным обратно. Эта непрекращающаяся неугомонность и есть созерцание. Созерцание фиксируется абсолютно определяющей способностью в Я, которая называется разумом или синтетической апперцепцией, и после того, как его составные части зафиксированы и упорядочены, оно передается в память как готовый продукт или объект. Поэтому мы не ведем себя как покоящиеся вещи среди покоящихся вещей, но наше существование подобно беспокойно текущему потоку, и то, что покоится в нем для появления, неорганические формы и субстанции, вещи вне нас, как и мы сами, взятые как вещь, – это постоянно заново производимые продукты непрерывно живого, составного механизма, продукты, содержащие не больше покоя, чем уровень воды в бурной реке, который мгновение спустя уже нельзя назвать тем же самым.
Создание явленного мира – это постоянное чередование или колебание между экспансивным представлением и сократительной деятельностью различения. В созерцании пространства представление расширяет Я за пределы его ощущений; рефлексия рассудка возвращает от расширения к пределу вновь созданного ощущения, тем самым отделяя спроецированное пространство от Я и объявляя его объемом, который должен быть помещен вне его. Это похоже на паровой двигатель. Представление – это пар, который поднимает поршень путем расширения, а разум – это клапан, который отделяет пар, поднявшийся слишком высоко, от котла, выпуская его во внешний мир. Однако оба движения, как экспансивное, так и сократительное, происходят на основе ощущений, которые являются мерилом, от которого расширение стремительно берет свое начало, и к которому сокращение перцептивно возвращается. Таким образом, этот процесс предстает перед нами в двояком виде, в зависимости от того, представляют ли его в сфере явлений или простого представления, или в сфере основных отношений Я. Ибо если в сфере явлении преобладает взгляд, будто дальнейшее пространство его расширения кон-тинуирально отнимается у Я пространственно расширенным не-Я, то в сфере истины это заблуждение полностью рассеивается осознанием того, что это не-Я, поставленное как ограничивающее (дающее обиду), есть не что иное, как продукт самого «Я».
Поэтому ограничение Я на самом деле исходит не от не-Я, а исключительно от самого Я, или является самоограничением Я. Я ограничивает себя в той мере, в какой: Я вызывает не-Я, или: Я противопоставляет себя тому, что никогда не может быть противопоставлено, – невообразимому. Иными словами, оно представляет невообразимое внешне, тогда как в действительности оно наполнено лишь безуспешным стремлением представить то, что никогда не может быть представлено в истине, а всегда только в видимости. Производство пространства – это стремление расширить Я в не-Я, а минусовая величина, которая входит в это стремление в ощущении, переносится в не-Я как контрстремление или контринстинкт. Поэтому чувство на одну степень ближе к внутренним состояниям Я, чем представление, потому что чувство и ощущение указывают на то, что действительно происходит в Я, тогда как представление и фантазия указывают лишь на то, что кажется происходящим в вымышленном внешнем мире. Там, где в чувстве осуществляется простое неограниченное стремление, возникает тоска, там, где оно страдает от чрезмерного противодействия, – боль, там, где противодействие поддерживает ободряющий и мягкий противовес стремлению, – удовольствие или восторг. В понятии стремления или побуждения, таким образом, ясно и опытно демонстрируется то основное отношение, которое проблематично и непостижимо позиционировалось в понятии вещи-в-себе или не-Я, а именно то иррациональное бытие, которое может только предполагаться и которое никогда не достигает точного позиционирования, которое должно приблизиться к изначальному позиционированию или абсолютному Я, чтобы этот мир, в котором мы находимся, мог появиться на свет. Оно не приходит извне, а вкрадывается изнутри как непреодолимое желание позиционировать нечто иное, чем Я, или как единственное, что может быть позиционировано. Побуждение – это, так сказать, ложное желание Я стать причиной эффекта, который никогда не может осуществиться, а именно позиционирования реального не-Я. Побуждение – это каузальность позиционирования в Я, которая не является таковой или которая терпит неудачу, поскольку ведет к невозможному. Если бы инстинкта не существовало, то не существовало бы ничего, кроме абсолютного Я или разума, действующего по своим собственным законам. Тот факт, что в тщетных, но настойчивых усилиях оно направилось к нереальному, невообразимому, иррациональному, называется инстинктом или волей природы, разум, приведенный, как бы, в противоположное направление. Это двойное отношение правильно направленного и неправильно ориентированного разума исчерпывает всю истину. Все остальное относится к необходимым иллюзиям, возникающим в результате неправильного направления.
Моральное учение
Наша практическая природа приводится в движение двумя различными побуждениями: побуждением удовольствия и чистым побуждением, или побуждением разума. Первый совпадает с формирующим стимулом нашей природы, который во всех степенях не имеет иной цели, кроме сохранения и удовлетворения себя. Это то же самое, на чем, согласно учению науки, основывается представление о мире явлений в способности «Я» к образному мышлению. Второй стимул, с другой стороны, – это тот, благодаря которому разум, или чистая способность мыслить, действует в нас как практическая движущая сила. Поскольку разум – это чистая самоактуализирующаяся деятельность, это побуждение проявляется как стремление к деятельности ради деятельности. В этом побуждении есть чистая активность без следа какого-либо страдания или переживания, поэтому нет следа тоски или удовлетворения тоски, а есть чистая потребность в разуме и удовлетворение от разума. Здесь автономия и свобода, причинность понятия в противоположность причинности природных стимулов.
Чистое понятие заставляет нас делать что-то совершенно независимо от внешних целей, только чтобы это было сделано, и воздерживаться от чего-то столь же независимо от внешних целей, только чтобы этого не делать, или же оно заставляет нас действовать ради самодеятельности, но таким образом, что именно в силу этой свободы у нас есть выбор следовать либо этому принуждению понятия, либо желанию противоположного побуждения. Убеждение в том, что я действительно свободен, заложено в природе автономного акта, который прокладывает путь к переходу от чувственного мира к умопостигаемому и сначала обеспечивает в нем твердую почву. В этом убеждении заключается предположение о чистой деятельности разума из самого себя, и, следовательно, признается то же самое, что учение науки утверждает как приоритет Я над не-Я, с доказательством того, что не Я должно быть выведено из не-Я, а наоборот, возникающее не-Я должно быть выведено из Я. Я, или разум, чисто самоочевиден как таковой, не определяемый ничем, кроме самого себя.
Как таковой, он мыслится не как вещь, которая есть и существует, а как свободная деятельность, как чистое и непорочное делание, которое действует из самого себя. Это действие не имеет в себе никакой другой цели, кроме своего собственного понятия, понятия своей свободы и независимости, в котором, следовательно, лежит отстранение, чтобы подчинить свою свободу никакой другой цели, но подчинить все другие цели этой свободе.
Действие из чистого понятия всегда объявляет себя действием по убеждению. Предмет убеждения называется долгом, побуждение (стимул) убеждения – совестью. Формальным условием нравственности или самоосвобождения является, таким образом, действие по долгу и по совести, то есть по собственным убеждениям, основанным на разуме. Тот, кто действует, руководствуясь лишь авторитетом, неизбежно действует без совести. Истинная сила самоосвобождения заключается не столько во внутренней природе наших убеждений, сколько в том, что мы готовы жить и умереть за них, а значит, подчинить им свои природные стимулы и, если нужно, пожертвовать ими. В этом решении и его фактическом исполнении гармония с абсолютным принципом возникает через безусловное подчинение вторичных составляющих нашей природы первичному принципу. Ибо в этом случае разум действует полностью в характере изначального Я, как принцип, господствующий над всеми побуждениями, а следовательно, над всеми временами и изменениями, и в этом сила воли также возвышается над изменениями времени способностей и желаний и утверждает себя как абсолютно неизменную благодаря стойкости, с которой она держится за свои убеждения.
Тот, кто действует в соответствии с желаниями природы, действует по принципу счастья, но тот, кто действует по принципу свободы, поднимается над природой и счастьем в чистой мысли. Это действие мысли как движущей силы наших поступков совершенно не похоже на диалектическое осуществление высшей деятельности, подчиненной произвольным целям. Скорее, оно проявляется совсем иначе, чем последнее, как предрасположенность или импульс к свободе и независимости. Его можно назвать гением добродетели и мужеством быть независимым. Главная цель образования – развить эту склонность. Тот, кто хочет воспитать добродетель, должен воспитать и независимость. Но она заключается в отношении между нашим разумом и нашими природными побуждениями, а именно в победе, которую цели чистой мысли одерживают над соображениями и склонностями природы, в то время как обучение теоретическому разуму или силе рассуждения заключается в ускорении или утончении движений, которые мысль совершает в своем собственном кругу. Какими бы искусственными и развитыми ни были эти движения, они еще не меняют отношения разума как служащего к побуждениям как господствующим. Для того чтобы разум мог господствовать над побуждениями как безусловный хозяин, необходим особый импульс к независимости, противодействие природному инстинкту.
Гений добродетели или врожденный сильный характер основаны на неограниченном и беззаконном господстве над всем, кроме нас самих. В нем как таковом еще нет добродетели, а есть только ее форма и манера, которой еще не хватает всего содержания закона. Человек обладает доброй волей, не желая ничего знать о долге и вине. Человек великодушен и мягок, но не справедлив. У человека есть добрая воля к другим, но нет уважения и уважения к их правам. Мы способны на самопожертвование ради других, но требуем, чтобы наша собственная эмпирическая воля была законом для всей нетронутой и свободной природы вне нас. Такие черты характера нельзя объяснить простым инстинктом удовольствия, но в столь великодушной и благородной манере выражается тенденция к господству Я над не-Я. Но в том случае, если человек требует от других жертв ради собственных целей, которым он отдается сам, он неизбежно становится несправедливым. Здесь, следовательно, тренировка теоретического интеллекта должна вступать в игру как дополнительное средство, как размышление о моих обязанностях и тренировка морального факультета знания, благодаря чему приобретается практическая мудрость или независимость знания, без которой простой инстинкт независимости сбивается с пути.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Рассекая в свободном полете воздух и чувствуя его противодействие, легкий голубь мог бы вообразить, что в безвоздушном пространстве ему было бы гораздо удобнее летать. Точно так же Платон покинул чувственно воспринимаемый мир, потому что этот мир ставит узкие рамки рассудку, и отважился пуститься за пределы его на крыльях идей в пустое пространство чистого рассудка. Он не , что своими усилиями он не пролагал дороги, так как не встречал никакого сопротивления, которое служило бы как бы опорой для приложения его сил, дабы сдвинуть рассудок с места. заметил
2
Книга пророка Даниила, глава 12, стих 3 (Дан.12:3)
3
Проект исследования критики, за которым может следовать суждение.

