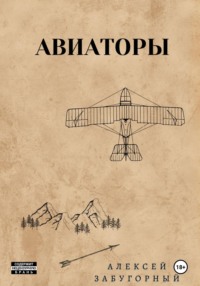Полная версия
Лже-Пётр

Алексей Забугорный
Лже-Пётр
Глава 1
Из подъезда одной из многоэтажек, тесно обступивших запущенный двор, вышел человек в плаще и зашагал по тротуару. Фонарей еще не зажигали, но дню приходил конец, это было очевидно.
Куда ему идти человек не знал; знал лишь, что дома ему оставаться никак нельзя; ведь стоит включить свет в тесной кухоньке, – и появятся тараканы, и начнут шуршать за отставшими от стен обоями, а хуже этого звука ничего небывает на свете.
Еще – крысы. Они всегда приходят ночью. Хотя на самом деле никаких крыс нет, как нет и тараканов, всякий раз, когда босая нога свешивается с кровати, невольно ждешь; вот сейчас вопьются в палец тонкие, желтые зубы.
Однако, страшнее всего – летучая мышь. Она влетает в открытую форточку и бесшумно мечется под потолком серой тряпкой. От того-то и страшно, что бесшумно…
Впрочем, и мышей не водится в густо заселенном микрорайоне, а все же нет-нет да и вздрогнешь: а ну как она здесь?
Отсюда-то и тревога, и мучение; ведь всё спокойно, не к чему придраться. А как бороться с тем, чего нет? И – как победить?
Оттого и не усидеть дома; оттого и идет человек, не разбирая дороги: будь что будет, и пусть случится хоть самое невероятное, а только не остается, как есть.
***
Оказавшись на окраине города человек в плаще с удивлением заметил, что стемнело окончательно. Перед ним был забитый сухим бурьяном пустырь, за которым светились огни угольного карьера, и доносился звук работающей техники.
Через пустырь вела заросшая колея, и человек зашагал по ней, минуя кучи строительного мусора и брошенные хозяйственные постройки, пока город не скрылся из виду.
Здесь колея заканчивалась. В темноте угадывалась пересеченная местность, где бродил ветер и сеял мелкий не то дождь, не то снег. Идти приходилось наугад, по раскисшей глине, обходя заросли густого кустарника.
Ветер усиливался. Сначала из темноты летели обломки веток, листья и мелкий сор, а затем обрушился снежный шквал такой силы, что человеку пришлось пригнуться, чтобы устоять на ногах.
Полы плаща трепетали. Человек поворотил было назад, но ветер все налетал и трепал его, сносил то в одну сторону, то в другую, так что вскоре он потерял направление и брел сквозь метель наугад, стараясь не угодить в глубокие рытвины и ямы, которые все чаще попадались на пути, вглядываясь в темноту в надежде отыскать хоть какой-нибудь признак жилья, но кругом был только мрак и вой вьюги.
Так прошел час, а может и несколько часов.
Снег валил все гуще, опускаясь на землю волна за волной. Человек шел в снегу сначала по щиколотку, потом по колено, а затем и по пояс. Полы плаща намокли и отяжелели. Уже с трудом переставляя ноги и чувствуя, как безразличие одолевает его, человек разлепил смерзшиеся ресницы и за снежной круговерти различил смутную тень. Она то росла, то уменьшалась, становясь похожей то на фрегат, плывущий по степи, то на великана. Тень издавала мерный гул, похожий на звук работающих механизмов.
– Наверное, это экскаватор у карьера, – подумал человек в плаще, и радость зажглась в груди его. Забыв об усталости, он устремился к тени через глубокий снег. – Провалиться сквозь землю, если я снова ввяжусь в подобную авантюру, – бормотал человек, укрывая раскрасневшееся от холодного ветра лицо свое воротником плаща. – Только бы добраться до дома, а там… Закроюсь шторкой, поставлю на плиту чайничек – и пусть хоть светопреставление; пусть шуршат тараканы и пищат крысы, – от этого я, по крайней мере, не замерзну. – И радостно потирал озябшие ладони.
Тень оказалась высокой сосной, одиноко стоящей посреди поля. За ней сквозь сетку летящего снега виднелась темная стена леса.
Человек в плаще остановился в недоумении. Сосна была вековая, с мощными ветвями и раскидистой кроной. Ветер гудел в ней словно орган, и сосна мерно, с достоинством кивала в ответ. Ликование и предвкушение скорого избавления осыпались осколками. Вновь тревога, а с ней и усталость, после пережитой радости гораздо более глубокая, разлилась, придавила гнетом.
– Где я? Как попал сюда? – подумал человек, но уже без волнения, а как-то отстраненно. – А впрочем… не все ли равно…
Он попытался поднять воротник выше, но замерзшие пальцы не слушались.
Не имея более сил двигаться, человек тихо опустился в сугроб под сосной. Снег оказался мягким и очень теплым.
– Замечательно, – слабо улыбнулся человек. – И чего это я раньше не догадался сделать привал? Вот сейчас посижу минутку-другую, и пойду снова.
Он придвинулся к стволу, свернулся калачиком, и укрылся плащом с головой.
– Почти как дома, – прошептал человек, чувствуя, как веки его помимо воли смежаются. – Только нет ни тараканов, ни крыс… лишь лес и снег. Ах, если бы теперь был Новый Год…
Вьюга бушевала, расходилась все шире; здесь же, под сосной, было тихо, как на морском дне, куда и в самый свирепый в шторм не доходит даже малейшего волнения, и только снег шел и шел, укрывая плащ, ровняя его с неторной целиной.
***
– Ровняя плащ с неторной целиной, шла вьюга, – скрипел пером человек в плаще. Пламя свечи шевелилось, словно дышало, и тени плавно покачивались в такт, превращаясь то в зимний сад, то в модный салон, то в силуэт незнакомки.
«Ровняя плащ с неторной целиной шла вьюга.
Ей порой…
… с неторной целиной… шла вьюга.
Ей порой… там-тарам-там-тарам-там-там…
…и в кружеве снегов летело небо....»
– Пся крев…
Человек в плаще бросил перо, заложил руки за голову и откинулся на спинку венского стула.
– Где ты, муза? Приди, приди! – шептал он, вглядываясь в узоры летящего за окном снега, будто бы в нем крылась разгадка. Кружевные манжеты его сорочки отбрасывали на стенки плаща тень, похожую на молодую изящную даму, обращенную в профиль.
Вдруг тень повернулась, и оказалась вовсе не тенью, а действительно графиней. Была она тонка лицом и бледна; густые, темные волосы собраны просто, по-домашнему, и ничего торжественного не было в ее скромном платье, но внимательный взгляд больших, темных глаз, которые при свете свечей казались еще более глубокими и даже страстными, проникал в самую душу.
Человек в плаще застыл в восхищении:
Человек в плаще. Как вы хороши сегодня, графиня!
Графиня. Спасибо за комплимент, князь. Тем более лестно, что он исходит именно от вас.
Человек в плаще. О, Вы выше любых комплиментов! К тому же, рядом с Вами я уж и не князь вовсе, а…
Графиня (перебивая его). …конечно, Вы не князь, Вы – великий скромник! В свете только и твердят о Вашей скромности, как об одной из величайших Ваших добродетелей.
Человек в плаще (рисует себе пером усы и бородку). Ваша светлость, я – рыцарь, рыцарь печального образа, и я сражен, погиб безвозвратно, и виноваты в этом Вы. Как несправедлива Ваша красота к тем, кто ценит более нее Вашу душу!
– Sharman, князь, – проворковала графиня и протянула ручку в атласной перчатке с кокетливо отведенным мизинцем. – Вы так великодушны к тем, кто ниже Вас.
– О, не говорите так! – страстно зашептал князь, опускаясь на одно колено и покрывая ручку поцелуями. – Я – раб, раб Ваш! Позвольте мне быть снежинкой, коснувшейся Ваших губ. Целовать следы Ваших туфелек, графиня…
Графиня, словно дразня, наклонилась к нему, взяла тонкими пальчиками полу плаща и вдруг резким движением откинула в сторону.
Дохнуло холодом. Ветер задул свечу и настал мрак. Графиня приблизила к человеку угловатую, заросшую косматой шерстью башку свою, вгляделась в его глаза маленькими, внимательными глазками и сказала низким баритоном: «Кажись, живой».
И тут же чьи-то сильные руки подхватили его и потащили сквозь ночь, вьюгу и лес, и вьюга ярилась над миром, и снег шел и шел, и не было ему конца.
Глава 2
Человек в плаще очнулся в жарко натопленном помещении, освещенном тусклым неверным светом. Совсем близко над ним был бревенчатый потолок, по которому ходили неясные тени, а рядом и, казалось, чуть ниже, раздавались приглушенные голоса.
– Так где ты нашел его? – спрашивал один, принадлежавший женщине, плавный и певучий.
– Я и говорю, – низким баритоном и, видимо, не в первый раз отвечал другой. – Шел из города, да сбился с дороги. Пришлось напрямки выбираться, через лес. Иду, значит. Глядь – что-то там под сосной: не то кочка, не то камень. Хотел уже пройти мимо, да будто толкнуло что: «Иди, проверь». Разгреб я снег – а там он. Ну, я его на плечо – и сюда. Так и нашел.
– Да-а уж, – ответил третий голос, степенный и неспешный. – Не сидится людям дома. Никакого порядка ни в природе, не в обществе.
– Как знать, – возразила женщина. – Может, нужда у него какая, или горе. Ведь кто-ж по своей воле пойдет в лес в такую метель? Только полоумный. А все же спас ты его, Миша, чудесным образом.
– Предлагаю тост за избавление, и избавителя! – вступил четвертый голос, высокий и дребезжащий.
– Сиди ужо, – возразила женщина. – Одно на уме. А ну, как не очнется он?
– Очнется, – успокоил баритон.
– Одно из двух, – рассуждал степенный голос. – Но, если разовьется пневмония, дело можно будет считать проигранным; лекаря в округе нет, а в город я в такую погоду не полечу. У меня ограничения.
– Хватит тоску нагонять, – отозвалась женщина. – И так тошно. Али спеть…
– Ровняя плащ с неторной целиной, – завела она вдруг чарующим малороссийским напевом, – шла вьюга. Ей порой… там-тарам-там-тарам-там-там… …и в кружеве снегов летело небо.... …О-ой…
Человек осторожно приподнял голову и огляделся. Он помещался на покрытой стеганным одеялом печи в небольшой бревенчатой избе. В маленькое промерзшее окошко билась вьюга. Под окошком у длинного дощатого стола сидела пышнотелая баба в домотканой рубахе до пят, с длинными распущенными волосами. Напротив, спиной к человеку, помещался матерый, косматый медведь в вышиванке и лаптях. Слева от медведя – черный как смоль ворон с длинным загнутым клювом, а справа – высокий, тощий козел с длинной шеей и длинными же, тонкими, изогнутыми как серп месяца рогами.
На коленях женщины был его, человека, плащ, который она зашивала, далеко отводя руку с толстой иглой.
– Ровняя плащ с неторной целиной, – снова запела она, но тут человек громко и неожиданно для себя чихнул.
– Ай очнулся?! – воскликнула женщина, и хозяева столпились у печи.
Смущенный их вниманием, человек попытался сесть, но ударился головой о потолок.
– Я, видите ли, – начал он, потирая макушку, – шел по лесу и, кажется, заблудился....
– Уж заблудился так заблудился, – сказала женщина, разглядывая его. – Миша насилу откопал тебя.
– Еще немного – и не добудились бы, – подтвердил медведь.
Женщина склонила голову набок и вздохнула, глядя на человека с жалостью: «Бедный. Натерпелся поди, в лесу-то».
Человеку в плаще захотелось рассказать, как тревожен желтый свет в его одинокой комнате, как неприятен звук за обоями, и крысы, особенно когда на самом деле их нет, и как он ушел от них, – но побоялся, что его, чего доброго, действительно примут за умалишенного, поэтому сказал так: «Вы правы. Ночной лес – действительно не лучшее место… особенно зимой… Но скажите, что это вы пели сейчас?»
– Да это не я, – вздохнула женщина. – Это ты все выкрикивал, пока без памяти был, а мне запало; теперь вот не знаю, как и отделаться. – И спросила. – Али ты поэт?
– Что вы, – смутился человек, – я и не пробовал никогда сочинять. Так, – привиделось, наверное. – И снова чихнул.
– Ну, что-ж, что не поэт, – проворковала женщина, в голосе которой была неизъяснимая сладость. – Если и не поэт, то уж, наверное, точно барин. Смотри, какие ручки; белые, что твой сахар.
Она взяла руку человека в свои теплые, мягкие ладони и склонив голову принялась разглядывать ее, словно то была не рука, а заморская диковина.
– Ишь, холеные, – приговаривала женщина, касаясь его пальцев, – только перстни носить. Ты, наверное, и сохи сроду не держал… – И посмотрев долгим взглядом, спросила. – Кто же ты будешь, добрый человек?
– Погоди ты, – перебил ее медведь. – Они и опомниться не успели, а уж ты лезешь со своими расспросами. Им бы сейчас чайку горячего, – ишь, чихают.
– Что вы! Не стоит беспокоиться, – отвечал человек. – Я и так доставил вам немало хлопот…
– Доставил или не доставил, – рассудил ворон, – а только организму этикет – что лишняя нога; схватите горячку – и поминай, как звали. Лекаря, сами понимаете, у нас нет. А в город в такую погоду я не полечу. У меня ограничения.
– Да погоди ты со своими ограничениями, – перебила женщина и добавила, – уж ты, барин, прости бабское любопытство. Милости просим на огонек. Сейчас чайку липового, да с медком – враз всю хворь из тебя выгонит, чаек-то.
– В подобных случаях, – проблеял козел, – рекомендуют более радикальные средства. Посему, ежели изволите хворать-с, – обратился он к человеку, – то у нас для таких кондиций завсегда есть… – и извлек из-под полы своей длинной холщовой рубахи внушительных размеров бутыль, наполненную мутной жидкостью. – Наши вашим! Премного рады знакомству.
***
– …А зовут меня МарьИванна, – говорила женщина, изящно двигая широкой талией. – Я еще когда Миша только занес вас сразу догадалась, что вы не обычный, а какой-то особенный.
– Ну уж, особенный, – зарделся человек, скользя со своей дамой по избе под звуки танго. – Я, знаете ли, МарьИванна, обычный человек. Самый обычный. Единственное что, так сказать, отличает меня от других обычных людей, – это то, что я познакомился с необычной женщиной!
Свет горел ярче. Самовар пускал пары. В центре стола с угощением стояла бутыль, и пел в углу патефон.
Человек в плаще изначально краснел и отводил глаза, чувствуя себя не в своей тарелке в незнакомой компании, но самогон убывал, и вот уже мужчины перешли на «ты», и на щеках МарьИванны расцвели розы.
– Какая она… – думал человек, украдкой поглядывая на хозяйку. – Кровь с молоком. И как это я сразу не разглядел такую… такую…
– …Аппетитную! – восклицал козел. – Аппетитнейшую кулебяку вы приготовили нынче, любезнейшая МарьИванна. Тает, тает во рту! Ручки ваши золотые.
– Полноте, – отводила глаза МарьИванна. – И ничего особенного; кулебяка и кулебяка.
– Ну же, не скромничайте, ангел наш МарьИванна! – дребезжал козел. – Признавайтесь, для кого расстарались так? – И, вытянувшись, как на параде, восклицал: «Здоровье дражайшей хозяйки! Ура!»
– Ура..! – подхватывал человек и осекался, смущенный собственной смелостью.
Но вечер продолжался, рюмки наполнялись вновь и вновь, громче играл патефон, и вот уже человек в плаще сам вставал, и в самых изысканных выражениях благодарил хозяев за приют, и помощь, и приятный вечер, находил слово для каждого, не забывая особо отметить красоту и радушие несравненной МарьИванны, громче всех кричал «Ура», и наконец, расхрабрившись окончательно, пригласил ее на танец.
Козел отлучился в дальний угол избы, где на стене висел телефонный аппарат, навертел изогнутую ручку, приставил один раструб к уху и сладострастно зашептал в другой, кося красным сырым глазком на пирующих: «Звезда моя… у нас сегодня решительно весело… о, приди, приди сквозь ночь… метель стихает… и – подругу… подругу…! Что? Да. Непременно. Лечу на крыльях! Мчусь!»
Повесив раструбы, он накинул на тощие плечи вытертый полушубок и скользнул за дверь.
– Далеко ли путь держишь, барин? – спрашивала МарьИванна, так и струясь в танце. Опущенные ресницы дрожали, она алела, как маков цвет, пышная грудь вздымалась. – На долго-ль к нам..?
– Я полагал, МарьИванна, что путь мой тернист и безрадостен, – отвечал человек в плаще, разгораясь в ответ, – но теперь… О, как далека от меня моя одинокая дорога. С тех пор, драгоценная МарьИванна, как я увидел Вас, сердце мое, – мое уставшее от тревог и жизненных скорбей сердце навеки принадлежит этому краю, этому лесу, этому жилищу… потому что в нем есть Вы, несравненная МарьИванна.
– Полноте, барин, – румянилась наливным яблоком МарьИванна, рдела в сладкой истоме МарьИванна, – полноте, все вы так, – наговорите ученых слов бедной девушке, а сами оглобли на сторону – и поминай, как звали.
– О нет, мой ангел, нет! – распалялся человек в плаще. – В Вас и только в Вас вижу я свое утешение. Только теперь понимаю, для чего… для кого проделал я многотрудный путь сей. – Человек вздохнул и зажмурился в неизбывной тоске. – Понимаете ли Вы, МарьИванна, как одинок тот, кто ни в ком, ни в ком не находит сочувствия? Знаете ли, как тревожен желтый свет в одинокой комнате? Как страшен звук за обоями, и – крысы, крысы… особенно когда их нет? Но я ушел от них. Ушел к Вам, бесценный ангел мой МарьИванна.
– Милый, милый барин, – льнула к нему хозяйка, – так то-ж в городе, а у нас… Ну какие-ж у нас крысы? Тех, что были, давно потравили ядом. А если, где и остались, так их Миша порубил лопатой. И тараканов нет. И летучих мышей. Только волки, да змеи лесные. А плащ ваш я залатала, – прибавила она с трогательной заботой. – И не заметите, что был порватый. Сто лет проносите – а не сносите.
– О, МарьИванна! – воздыхал человек в плаще. – Ручки ваши, ручки золотые, бриллиантовые. Дайте лишь посмотреть… лишь поцеловать их… МарьИванна… я раб, раб Ваш..!
– Ох, барин, – млела МарьИванна. – Ох и слова ваши. Что мед по сердцу. Я таких и не слыхивала. Уж наверное вы точно поэт.
– Какая у нее грудь, – думал человек в плаще, украдкой скользя взором по округлым возвышенностям своей дамы. – Никогда не видал я такой груди. Пышная, исполненная таинственного колыхания, белоснежная и зыбкая… лишь тонкая грань отделяет ее от меня. О, воображение! Воистину, и оставшись совсем без покровов была бы она менее обнажена, чем теперь…»
– Кхм! – раздалось поблизости.
МарьИванна его вдруг оказалась сидящей за столом; в одной руке блюдце с чаем, в другой – сахарная голова; полные красные губы причмокивают, большие прозрачные глаза безразлично скользят кругом.
Перед человеком в плаще стоял медведь: «Идем уже курить, добрый человек».
***
Над головой стыли звезды. Полная луна, окруженная бледным нимбом, безо всякого интереса глядела на темнеющий лес, алмазно-искрящийся снег, на домик среди сугробов, что отбрасывал короткую острую тень.
– Гляди-ка, – удивился медведь. – Разъяснилось, как ничего и не было.
– Да-а-а, – протянул человек, кутаясь в плащ, – А тишина-то, тишина…
Медведь достал из кармана шкалик с самогоном, и они поочереди отпили из горлышка.
– Что тишина, – пробубнил медведь, закуривая. – Одна видимость. Оно вроде и тихо, а все как будто на взводе. Одно слово – стабильности в мире нет.
– А где-ж ее взять-то, стабильность? – философски заметил человек в плаще, тоже закуривая, – если каждый там (он ткнул пальцем вверх) делает, что ему вздумается, а отдуваться за все – простому человеку.
– Все потому, что Царя нет, – отвечал медведь
– Как нет? – удивился человек. – А кто-ж тогда на троне сидит?
– Так то-ж разве Царь? – усмехнулся медведь. – Настоящий Царь – он сильный. А потому – добрый. У доброго же Царя забота прежде всего о государстве, о подданных. А ежели он только о собственном брюхе печется, и все царство под себя одного подгоняет, словно башмак, – так такого надобно гнать в шею! Ибо не Царь то, а проходимец.
Медведь отпил еще из шкалика и добавил, глядя на луну:
– Эх, кабы получилось у нас в свое время, что задумали, – глядишь, и жили бы, как люди.
– А что такое вы задумали? – спросил человек в плаще.
– А вот что, – отвечал медведь. – Давно не вспоминал я об этом, и уж забыл за давностью лет, да напомнил ты мне дела минувшие. Так и быть: расскажу без утайки все, как было.
Рассказ медведя.
В те годы я на флоте служил. Носил бескозырку с лентами, тельняшку и брюки клёш.
Исправно служил. От работы не бежал, приказы исполнял неукоснительно, вахты стоял и за себя, а где надо – и за товарищей, если сильная качка. Я, надо сказать, к качке нечувствительный. Другой матросик, бывало, чуть заштормит – уж весь зеленый; через борт перегнется, рыб прикармливает. Я же – все ничего. Словом, и сослуживцы, и командование меня ценили. Так и тянулась моя служба. Не быстрее, чем у всех, и не медленнее, и совсем уже немного оставалось до приказа, если бы не прибыл к нам однажды адмирал. Он как раз был в тех краях на учениях, и по старой памяти заглянул к нашему капитану на корабль; а был он капитану однокашник.
Встретились капитан с адмиралом, обнялись. Капитан так даже прослезился. Стали вспоминать разные случаи из своей курсантской молодости, да так и зашли в каюту.
Долго ли, коротко ли, прибегает матросик, из наших, и говорит: "Иди, Миша; товарищ капитан тебя зовет".
Пришел. Стучу. Открывает сам капитан.
В каюте стол накрыт; коньяк, морепродукты импортные – видно, адмирала подарок. За столом сидит сам адмирал в расстегнутом кителе и с красным носом.
Я, как положено, встал во фронт, докладываю: «Такой-то – такой-то прибыл по вашему распоряжению!». Адмирал говорит: «Не робей Миша. У нас запросто. Проходи и садись на диван».
Я сначала не поверил: как, мол, так? Адмирал простого матроса за стол приглашает! А капитан стоит рядом, подмигивает: «Выполняй, Миша, приказ».
Сел я. Адмирал мне рюмочку наливает, а сам хитро так смотрит: «Давай, – говорит, – Миша, выпьем за знакомство».
– Так точно! – отвечаю, – товарищ Адмирал!
А Адмирал мне: «Отставить Адмирала! Для тебя я просто – Назар Филиппович. Потому как много хорошего мне рассказывал о тебе твой капитан».
– Так точно! – говорю. А сам еще не решаюсь целого Адмирала по имени-отчеству называть.
Адмирал тогда вторую рюмочку наливает: «Давай, Миша, снова выпьем с тобой. За то, чтоб во всем мире наступили мир и спокойствие».
Я, как приказано, выпил, но уж больно хорош оказался адмиральский коньячок, потому как спрашиваю: «А как же это так мы, товарищ Назар Филиппович, выпили за мир, коли если он настанет, то в нас с вами, – в военных, то есть, – всякая нужда отпадет?»
Посмотрел на меня Адмирал строго так, а потом как хлопнет себя по коленке, да как засмеется: «Ай да боец! Вижу теперь и сам, что не дурак. Логическое мышление в тебе, – говорит, – есть». – Наливает третью рюмочку, и говорит торжественно: «А теперь, Миша, выпьем за нашу Родину». – И встал. Я, конечно, тоже встал, а капитан с рюмочкой уже стоит, и за стол держится: «За Родину! – говорит. – Нашу Мать!» – И прослезился.
Выпили мы. Адмирал наклонился ко мне, вот как я к тебе теперь, и говорит: «Вижу я, Миша, что ты действительно хороший матрос. И дело наше, особо секретное и государственной важности, для которого мы тебя позвали, можно тебе доверить».
Я оробел, – на адмирала гляжу, а он опять улыбается, хитро так: «Не робеть, боец! На то они и дела, чтобы их делали». – И наливает четвертую рюмочку.
Я выпил, отдаю честь: «Так точно, Назар Филипович! Надо – сделаем!»
Адмирал обрадовался, а капитан даже в ладоши захлопал от удовольствия.
– Ну, – говорит адмирал, – тогда слушай. Но прежде, чтобы не открыл кому ненароком гос. тайны, вот тебе документ о неразглашении. Подпиши здесь и здесь.
– Есть подписать! – отвечаю. И подписываю.
Адмирал все проверил, документ к себе в портфель убрал и стал рассказывать.
– Давным-давно, – говорит – был, Миша, один очень интересный Царь. Жил он неизвестно где, и звали его неизвестно как. Да только есть сведения, что обладал тот царь весьма важными для науки качествами; то есть, по-тогдашнему, был он великий волшебник. И был у царя предмет, который он сумел так намагнитить своим волшебством, что всякий, кто им завладеет, непременно станет самым могущественным Царем. Что за предмет – никто не знает; тайну эту царь унес с собой на тот свет, как великую загадку для потомков. Вот нам и предстоит ее разгадать.
Я сижу, слушаю, на ус мотаю. А адмирал дальше речь ведет.
– С этой целью снаряжаем мы поисковую экспедицию, а тебя временно командируем на сушу и назначаем руководителем. Но запомни – о том, что это на самом деле за экспедиция, и какая ее настоящая цель, не будет знать никто, кроме тебя одного. Работать будешь под прикрытием. Дадим тебе студентиков с филфака, а ты над ними – вроде научного руководителя. Поедете по деревням да по селам изучать народный фольклор. Студентики будут старичков опрашивать, частушки записывать, артефакты народные искать, а ты ходи, смотри, да на ус мотай. Каждую добытую вещь сам осматривай, и чуть что – мигом ее секретной бандеролью – нам. А уж мы ее передадим Царю, и станет наш Царь самым сильным. А если он станет самым сильным, то кто же осмелится на нас напасть? Вот и наступит мир во всем мире. Понимаешь, – говорит, – Миша, теперь мой тост?