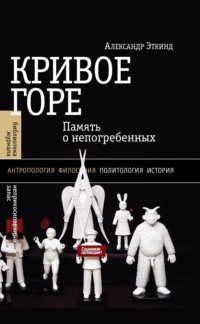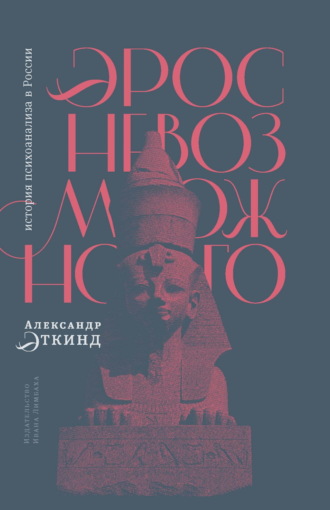
Полная версия
Эрос невозможного. История психоанализа в России
Общечеловеческая мораль, известная под названием здравого смысла, говорит о том, что за удовольствия такого человека приходится расплачиваться другим. Сверхчеловек, спроектированный Ницше, презирает здравый смысл как нечто, что нужно преодолеть; то, что он дает и что берет, находится вне морали, по ту сторону добра и зла. Ницше не сказал ничего конкретного о том, как сверхлюди будут общаться между собой. Его, как потом и его последователей-большевиков, совсем не заботили и другие очевидные для здравого смысла проблемы: например, как и из чего создается сверхчеловек, что ему надо делать, чтобы от его действий не страдали другие, и как он будет жить, меняясь во времени.
Сверхчеловек существует лишь в единственном числе. Заратустра одинок не так, как бывает одинок человек или как был одинок Ницше: одинок не потому, что болен, или не сжился с кем-то, или так сложилась его жизнь. Он одинок в принципе, иначе не мог бы и не хотел; одиночество – одно из определяющих его качеств. Откроем его монолог на любой странице: «О, уединение, отчизна моя! Как блаженно и нежно говорит мне твой голос!» Или: «Кто хотел бы все понять у людей, должен был бы ко всему прикоснуться. Но для этого у меня слишком чистые руки».
А Лу была частью человеческой истории, изменяясь вместе с окружающими ее реальными людьми. Осуществляла ли она ницшеанский миф на практике? Пока она становилась тем, что есть, другие либо уходили с ее пути, либо пытались ей соответствовать. Для них это кончалось по-разному, но нас сейчас интересует сама Лу. Миф статичен, а мир меняется. Завтра человек будет не тем, чем он был вчера. Поэтому, становясь тем, что есть, он перестает быть тем, которым был. Самоосуществление человека оказывается его историей. Стань тем, что ты есть, говорил Ницше девушке, желая добиться от нее того, чего хотел он. Стала ли она с другими тем, кем была – то есть не смогла быть – с Ницше? История человека почти необъяснима, а его развитие почти непредсказуемо, потому что он осуществляет себя вместе с другими людьми, и с каждым новым партнером человек – это меняющееся и почти новое Я.
Испытав сильнейшее влияние Ницше, Лу стала совсем другой. Историки расходятся во мнении о том, кто был первым мужчиной в ее плотской жизни. Согласно наиболее выразительной версии, им был основатель социал-демократической партии Германии и марксистской газеты «Форвартс» («Вперед»), в будущем активный революционер, а потом член рейхстага Георг Ледсбур. Пройдут десятилетия, и с ним в Вене будет общаться Троцкий…
Потерявшей невинность Лу было уже за 30. Происшедшее потрясло семейную жизнь Андреасов. Фред собирался покончить с собой, Лу чуть было к нему не присоединилась, но в итоге все закончилось мирным соглашением, в результате которого их роли определились на всю жизнь. Лу стала пользоваться совершенно необычной свободой, сохраняя общий дом и дружескую близость с Андреасом. К этому времени относятся несколько книг, сделавших ее довольно известной среди интеллектуальной элиты; в них она перерабатывает и преодолевает влияние Ницше. В одной из них дается своя трактовка евангельского сюжета, в которой Христос оказывается одиноким страдающим героем. Другая прямо посвящена философии Ницше. Последняя имела успех, и довольно скоро, в 1896 году, ее перевод появился на русском языке в журнале символистов «Северный вестник» (он издававался петербургским приятелем Лу Акимом Волынским, и в нем печатал тогда свои романы Дм. Мережковский).
В мае 1897 года Лу встретилась с Рильке. Рене Мария Рильке был 21 год, и он был на 14 лет моложе Лу Андреас-Саломе. Роман между ними возник сразу. В жизни Рильке было много женщин; он писал им стихи, быстро очаровывался верой в возможность счастья и так же быстро охладевал. На их фоне Лу была единственной. Их близость продолжалась четыре года; но еще целых тридцать лет Лу оставалась для Рильке самым большим авторитетом, а возможно, и самым близким человеком.
О том, что она значила для него, говорит их переписка. В начале романа он писал ей: «Моя весна, я хочу видеть мир через тебя, потому что тогда я буду видеть не мир, а тебя, тебя, тебя». Позже, в 1903 году, он писал иначе: «Я чувствовал тогда и знаю сейчас, что бесконечная реальность, которая окружала тебя, была самым важным событием… Никогда раньше я в своих мечтаниях на ощупь не чувствовал жизнь так сильно, не верил в настоящее и не узнавал будущего. Ты противостояла всем моим сомнениям и свидетельствовала, что все, к чему ты прикасаешься, что видишь и чего достигаешь, – существует. Мир перестал быть похожим, как в моих первых стихах, на облака, которые то сливаются вместе, то распадаются; в нем появились вещи, я научился различать животных и цветы; медленно и трудно я понимал, что все просто, и учился говорить простые вещи. Все это благодаря тому, что мне посчастливилось встретить тебя в то время, когда я рисковал потерять себя в бесформенности».
Под ее влиянием он изменил даже имя; переделал неопределенное и интимное Рене в твердое романтическое Райнер («Ваше имя хотело, чтобы Вы его выбрали», – писала Рильке много лет спустя заочно влюбленная в него Цветаева). Творческие периоды перемежались у Рильке с болезненными циклами тоски, страха и беспомощности. Лу была для него любовницей и одновременно – матерью и терапевтом. Она принимала его эмоции, которые, однако, часто казались ей чрезмерными, ценила и стимулировала тот канал самовыражения, который был для Рильке спасением, – его поэзию, и терпеливо приближала его к реальности.
Их общей любовью была Россия. «Все настоящие русские – это люди, которые в сумерках говорят то, что другие отрицают при свете», – писал Рильке своей матери. «В его воображении поэта Россия вставала как страна вещих снов и патриархальных устоев», – писала его русская знакомая Софья Шиль. Всю свою жизнь он пытался приобщиться именно к такой России: учил язык, писал стихи о русских богатырях и монахах, переписывался с русскими поэтами и одно время собирался даже эмигрировать в Россию. В его последние дни с ним была его русская секретарша.
Вымысел в гуще невымышленного
В 1898 году Лу публикует в «Ди Цайт» статью под неожиданным названием «Русская философия и семитский дух», в которой дает обзор современной интеллектуальной жизни в России. Она признается, что изумлена накалом происходящей там борьбы за развитие философской и религиозной мысли. Русским пока трудно дается философское возвышение духа, переходящее за пределы наивной религиозной метафизики; и потому их попытки двигаться в этом направлении остаются подражанием немецкой философии времен Шеллинга и Гегеля. Все же абстрактная немецкая философия, продолжала Лу, мало приспособлена к оплодотворению русского духа. Между тем Россия нуждается для своего культурного развития в более систематическом философском воспитании; для этого, полагала Лу, в России есть народ, «который развил в себе талант абстрактного Богопознания до уровня гениальности». Это евреи. По мнению Лу, именно в философии евреи могут оказать более плодотворное влияние, чем в любой другой области. Она ссылается здесь, как на источник информации, на своего друга Акима Волынского, известного литературного критика и издателя. Зинаида Гиппиус писала о нем как о человеке, который, в отличие от многих современников, «еврейства своего и не скрывал… а, напротив, им даже гордился».
Нельзя представить себе ничего более противоположного, писала Лу, чем русский дух с его наивной образностью и художественной конкретностью и еврейский талмудический дух с его тягой к предельным абстракциям. «Еврейский дух воспринимает телескопически то, что русский дух видит через микроскоп». И все же в отличие от немцев, которые стремятся схватить любое явление клещами понятий, евреи смотрят на него глазами, полными любви и энтузиазма. Именно этим они близки к молодой культуре русских. Но путь в российскую культуру евреям пока запрещен, и оттого «еврейская диалектическая сила получает там изощренно острое направление». Как только философские кафедры России дадут евреям возможность свободной конкуренции, так мы увидим, предсказывает Лу, как две эти нации, отправляющиеся от противоположных полюсов культуры, научатся понимать друг друга и друг в друга проникать.
Ницше еще двенадцатью годами раньше писал, что «мыслитель, на совести которого лежит будущее Европы… будет считаться с евреями и русскими как с наиболее надежными и вероятными факторами в великой игре и борьбе сил». Последовавшее столетие прошло под трагическим знаком этих трех национальных вопросов – немецкого, русского и еврейского. В свете этого опыта проницательность и одновременно ограниченность анализа Лу поражают. Она предвидела великую духовную вспышку, которая последует, как только русская и еврейская духовность начнут «проникать друг в друга». Но она не угадала специфически социальной направленности того нового варианта талмудизма, который будет порожден в атмосфере еврейских местечек, равно как и той странной уязвимости, которую проявит к этому влиянию вовсе не такая уж молодая русская культура.
В апреле 1899 года супруги Андpeaс-Саломе и Рильке втроем приезжают в Россию. Пасхальная неделя в Москве подтверждает их сказочные ожидания. Они встречаются с Леонидом Пастернаком, скульптором Паоло Трубецким и самим Львом Толстым. Их русские собеседники были гостеприимны, но не разделяли их восприятия России, и близости между ними не было. Такая духовная близость с русскими возникнет у Рильке только тогда, когда вырастет новое их поколение. Борис Пастернак считал его величайшим поэтом, а видевшая его лишь на фотографиях Марина Цветаева была всерьез влюблена в него, и оба состояли с Рильке в многолетней переписке. Та Россия, которой поклонялся Рильке, была прекрасной сказкой и для этих русских, чудом выживавших в коммуналках или в эмиграции.
Когда после двух месяцев пребывания в Москве и Петербурге путешественники вернулись в Берлин, подруга Лу нашла ее и Рильке столь погруженными в изучение русского языка, истории и литературы, что, когда она встречала их за столом, они были так утомлены, что не могли поддерживать разговор Через год они снова приезжают в Россию, на этот раз вдвоем, без Андреаса. Вот какое впечатление произвели они тогда на десятилетнего Бориса Пастернака, который спустя много лет именно этим эпизодом откроет свою книгу воспоминаний: «Жарким летним утром 1900 года с Курского вокзала отходит курьерский поезд. Перед самой отправкой к окну снаружи подходит кто-то в черной тирольской разлетайке. С ним высокая женщина. Она, вероятно, приходится ему матерью или старшей сестрой… Тут, на людном перроне, между двух звонков, этот иностранец кажется мне силуэтом среди тел, вымыслом в гуще невымышленности». Лу и Райнер ехали к Толстому в Ясную Поляну. Они встречались уже второй раз; семидесятилетний Толстой, возможно, тоже не увидел в них «невымышленности». Во всяком случае, он не проявил особого интереса ни к стихам Райнера, ни к идеям Лу. Ближе сошлись они тогда с малоизвестным крестьянским поэтом Спиридоном Дрожжиным.
Для Лу путешествия в Россию, совпавшие по времени с ее поздней женской зрелостью, имели иное значение, чем для Рильке. Она переживала их как свой возврат – к юности, к семье, к родным и любимым с детства местам, к реальности. Она передумывает свое прошлое: теперь роль, которую сыграл Гийо в ее жизни, предстает перед ней как ее «дерусификация», и она с большей благодарностью вспоминает любовь к ней ее «русского» отца. Волжская природа кажется теперь Лу символом и продолжением ее женской сущности, и в ее дневниках появляются малознакомые ей раньше желания покоя и уединения. Поэтическое визионерство Рильке, привязываемое им к России, теперь кажется ей преувеличенным и даже нездоровым. Любовь к России, которая раньше сближала ее с Рильке, теперь разлучила их.
Лу оставила Рильке в Петербурге, уехав к брату в Финляндию. В довольно жестком письме, озаглавленном «Последнее послание», Лу вспоминает, как она была для Райнера матерью, и, как мать, хочет выполнить последний долг, рассказав ему о диагнозе, который поставил Рильке, с ее слов один, врач: этот поэт, сказал он, может повторить судьбу Гаршина. Знаменитый русский писатель, страдавший приступами депрессии, покончил с собой в тридцать три года, бросившись с лестницы. Читать это Рильке было тем более тяжело, что врач, о котором говорила Лу, Фридрих Пинельс, был ее новым любовником. В этом письме Лу требовала от Райнера твердости и роста: что касается ее самой, то «несмотря на разницу в возрасте, которая существует между нами, я все время… росла, я все дальше и дальше врастала в то состояние, о котором с таким счастьем говорила тебе, когда мы прощались, – да, как ни странно это звучит, – в мою юность! Потому что только теперь я молода, и только теперь я являюсь тем, чем другие становятся в восемнадцать: полностью самой собой». Лу росла, переживая все новые идентификации, и ссылка на Пинельса в ее письме к Рильке прямо соседствует со скрытой цитатой из Ницше. Ответ Рильке был полон тоски: «…ты не имеешь представления о том, какими длинными могут быть дни в Петербурге…»
Трагическое чувство Рильке к Лу зашифровано во многих его стихах. Вот одно из самых знаменитых, появившееся на свет в «Книге паломничеств», уже после расставания с Лу и женитьбы на Кларе Вестхоф, но написанное, по свидетельству самой Лу, в 1897:
Нет без тебя мне жизни на земле.Утрачу слух – я все равно услышу,очей лишусь – еще ясней увижу.Без ног я догоню тебя во мгле.Отрежь язык – я поклянусь губами.Сломай мне руки – сердцем обниму.Разбей мне сердце. Мозг мой будет битьсянавстречу милосердью твоему.А если вдруг меня охватит пламяи я в огне любви твоей сгорю —тебя в потоке крови растворю.(Перевод А. Немировского)Переписка Рильке и Лу Андреас-Саломе составляет большой том. В течение десятилетий после того, как закончилась их любовная связь, Рильке писал Лу о том, чего не смел сказать в стихах. Когда волнами охватывавшая его тревога оказывалась чрезмерно велика, он молил о встрече, но почти всегда получал отказ. Выражая очевидное намерение держать слишком неустойчивого партнера на расстоянии, письма Лу поощряли Рильке к творчеству. Она рассматривала его стихи как спонтанно найденный и ничем другим не заменимый способ самолечения. Позднее, в 1912 году, она даже отсоветовала Рильке начать курс психоанализа, к которому он всерьез собирался прибегнуть. Они согласились тогда друг с другом, что психоанализ наверняка поможет Рильке избавиться от его эмоциональных кризисов, но, скорее всего, он избавит его и от способности писать стихи. Всего через месяц после незавершенных тогда переговоров с одним аналитиком Рильке начал писать свои «Дуинские элегии», так что история сумела доказать по крайней мере обратное: без психоанализа Рильке сохранял свою гениальность.
Позже кенигсбергский пациент Лу, которому она иногда в ходе анализа рассказывала истории из своей жизни, вспоминал: «Однажды, говорила Лу, мы сидели с Рильке в поезде и играли в свободные ассоциации. Вы говорите слово и партнер говорит любое слово, какое придет в голову. Мы так играли довольно долго. Неожиданно мне пришло в голову объяснить, почему Рильке захотел написать свою повесть о военной школе, и я ему сказала об этом. Я объяснила ему природу бессознательных сил, которые заставляют его писать, потому что они были подавлены, когда он был в школе. Он сначала засмеялся, а потом стал серьезным и сказал, что теперь он вообще не стал бы писать эту повесть: я вынула ее из его души. Это поразило меня, тут я поняла опасность психоанализа для художника. Здесь вмешаться – значит разрушить. Вот почему я всегда отговаривала Рильке от психоанализа. Потому что успешный анализ может освободить художника от демонов, которые владеют им, но он же может увести с собой ангелов, которые помогают ему творить».
«Эротическое»
В 1903 году супруги Андреас поселились в Геттингене. Местность вокруг напоминала Лу волжский пейзаж, и она «обрела маленький дом после большого Отечества». Впрочем, она проводила там немного времени: путешествовала с друзьями по Европе, каждый год навещала мать в Петербурге (до смерти последней в 1913 году), подолгу жила в Берлине.
Спустя полвека после расставания с Лу пожилой, благородного вида джентльмен, имени которого мы не знаем, рассказывал ее биографу: «В ее объятиях было что-то странное, примитивное, анархическое. Когда она смотрела на вас своими лучащимися голубыми глазами, она будто говорила: „Принять твое семя будет для меня верхом блаженства“. У нее был огромный аппетит к этому. В любви она была безжалостна. Для нее не имело значения, имел ли мужчина другие связи… Она была совершенно аморальна и одновременно очень благочестива – вампир и дитя».
Шведский психоаналитик Пол Бьер, встречавшийся с ней на протяжении двух лет, писал о Лу так: «Сразу было видно, что Лу необычная женщина. У нее был дар полностью погружаться в мужчину, которого она любила. Эта чрезвычайная сосредоточенность разжигала в ее партнере некий духовный огонь. В моей долгой жизни я никогда не видел никого, кто понимал бы меня так быстро, так хорошо и полно, как Лу. Все это дополнялось поразительной искренностью ее экспрессии. Она обсуждала самые интимные и личные дела с поразительной беспечностью. Я помню, что был шокирован, когда она сообщила мне о самоубийстве Рэ. И у тебя нет угрызений совести? – спросил я ее. Она только улыбнулась и сказала, что сожаления – это признак слабости. Я знал, что это только бравада, но она действительно казалась ничуть не озабоченной последствиями своих действий и этим была больше похожа на силу природы, чем на человека. Ее необычно сильная воля, как правило, одерживала триумф над мужчинами. Она могла быть очень страстной, но только на мгновение, и это была странно холодная страсть. Я думаю, Ницше был прав, когда сказал, что Лу – это воплощение совершенного зла. Но только в смысле Гёте: это то зло, которое порождает добро. Она могла разрушать жизни и семьи, но ее присутствие побуждало к жизни. В ней чувствовалась искра гения. В ее присутствии люди вырастали… Ни в коем случае не будучи холодной, она не могла полностью отдать себя даже в самых страстных объятиях. Она могла быть поглощена своим партнером интеллектуально, но в этом не было человеческой самоотдачи. Возможно, в этом была трагедия ее жизни. Она стремилась найти освобождение от своей сильной личности, но не могла найти его. В самом глубоком смысле этих слов Лу была несостоявшейся женщиной» (там же).
Знавший ее не столь близко немецкий писатель Курт Вольф говорил иначе: «Ни одна женщина за последние 150 лет не имела более сильного влияния на страны, говорящие на немецком языке, чем эта Лу фон Саломе из Петербурга». В 1910 году Лу подружилась с Мартином Бубером, одним из крупнейших философов XX века. По заказу Бубера Лу написала книгу под названием «Эротическое». Книга имела успех прежде всего вследствие содержавшегося в ней откровенного восторга по поводу физических аспектов половой жизни; но высокая оценка книги, данная таким авторитетом, как Бубер, говорит и о ее интеллектуальном уровне. Все живые существа любят друг друга, но по мере приближения к человеку и по мере развития самого человека любовь становится все более индивидуальной. Чем более индивидуален человек, тем более требователен и тонок его выбор и тем быстрее наступает пресыщение и потребность в переменах. Любовь, и прежде всего половой акт, по-разному переживается мужчиной и женщиной. Для мужчины, пишет Лу, половой акт – момент удовлетворения. Для женщины это состояние – нормальное и целостное явление, вершина ее человеческой сущности.
Примерно в то же время сходные идеи легко найти у русских философов – Вл. Соловьева, В. Розанова, Н. Бердяева: «У мужчины пол более дифференцирован, у женщины же он разлит по всей плоти организма, по всему полю души». Святость мужчины равносильна аскетизму, асексуальности; святость женщины, как доказывает Лу, говоря о Мадонне и Марии Магдалине, – вершина ее эротической сущности матери и любовницы. В сексе женщина приближается к тому, что Лу называла словом «всё»: по ее формулировке, «всё» для женщины значит то же, что внешний мир для мужчины. Эротическое «всё» у Андpea-Саломе парадоксально напоминает мистическое «всеединство «современной ей русской философии.
Что бы она ни называла этим словом, оно помогало ей сохранять стабильные отношения с мужем; она много писала, и ее проза и критические эссе дали ей определенную известность; ее поклонники и друзья принадлежали к интеллектуальной элите Европы… Но в ее сложной духовной конструкции не хватало еще главного элемента.
Моисей и Магдалина
В сентябре 1911 года в обществе Пола Бьера Лу посетила Психоаналитический конгресс в Веймаре и там встретилась с Фрейдом. Ей уже исполнилось 50, но она вновь начинала все сначала. Прибыв вскоре в Вену, она произвела наилучшее впечатление на узкий круг аналитиков, окружавших Фрейда. Карл Абрахам рекомендовал ее учителю на основе знакомства с ней в Берлине: «Я никогда не встречался со столь глубоким и тонким пониманием психоанализа». На просьбу Лу о посещении знаменитых «сред» Фрейд ответил: «Если вы приедете в Вену, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы показать вам то немногое, что можно показать в психоанализе».
Вечерние встречи по средам аккуратно проводились Фрейдом начиная с 1902 года; потом эти встречи превратились в собрания Венского психоаналитического общества. Лу включилась в психоаналитическое движение в ключевой момент его развития. Фрейд добился успеха в проработке теории и метода клинического психоанализа; вот-вот психоанализ начнет победное шествие по миру… Однако ощущались и первые признаки тех тревожных и неясных пока для Фрейда явлений, которые вскоре приведут к диссидентству Адлера и Юнга, к расколу всего психоаналитического движения.
Все же удивительно, как после близости с двумя величайшими романтиками, Ницше и Рильке, эта женщина смогла приобщиться к суровому реализму Фрейда. Но, как всегда случалось на поворотах ее судьбы, Лу осознала новое направление своих жизненных интересов сразу и сменила курс без видимого сопротивления. Позднее она выделит два фактора, которые сделали ее столь восприимчивой к фрейдовской психологии: то, что она выросла среди русских, а это люди особо готовые к самоанализу; и длительный опыт общения с человеком необычной духовной судьбы – Рильке.
Фрейду в 1912 году было 56 лет. Этот гениальный человек, которого потом многие, а в России почти все, считали ниспровергателем моральных ценностей, был отцом шестерых детей, упорядоченная жизнь которого протекала почти целиком в стенах его венской квартиры. Он был всегда тщательно одет, речь его привлекала своей грамотностью и безупречным выговором, его величественные манеры принадлежали XIX веку. Интеллектуальная смелость его приключений в области духа уравновешивалась размеренностью его личной жизни. Изо дня в день он вставал, работал и ложился спать в одно и то же время. Его приемная находилась через несколько дверей от его спальни, так что в короткие перерывы между приемом пациентов он мог пройтись лишь по комнатам своей квартиры. Пациенты знали его пунктуальность и понимали то значение, которое он придает их опозданиям. Единственной его слабостью были сигары, да еще коллекция античных и восточных статуэток, в которую, особенно в конце жизни, он вкладывал все свободные деньги. Его рабочий стол был весь заставлен этими статуэтками, стоявшими в образцовом порядке и оставлявшими точно отмеренное место для листов бумаги, на которых он писал свои книги. Пациент, проявивший особое мужество в раскрытии глубин своего бессознательного, удостаивался награды в виде краткой экскурсии по этой коллекции.
Так много знавший о человеческих страстях, он вел жизнь, всецело находившуюся под интеллектуальным контролем. Помощь, которую он предоставлял своим пациентам, была подчинена этой задаче, и именно такое отношение к ней, как к сотрудничеству в деле познания бессознательного, он поощрял у пациентов. Борьба с лицемерием общества, так хорошо знакомая по его книгам, была и его борьбой с самим собой. Его взгляды в сексуальной области с современной точки зрения кажутся пуританскими. Он открыл детскую сексуальность, но эти открытия самому ему казались неприятными и отталкивающими. Заложивший основы сексуального просвещения, он направлял своих сыновей к доктору, чтобы они узнали от другого необходимые факты половой жизни. Одна из его невесток вспоминала, как он ругал ее за то, что она слишком ласкает своего маленького сына и этим вызывает в нем эдипову фиксацию. Ему был 41 год, когда он писал своему близкому другу, что сексуальное возбуждение более не представляет для него интереса.
Его ум естествоиспытателя видел в сексуальности могущественную природную силу, но, показывая ее мощь и универсальность, он не испытывал по этому поводу восторга, скорее сожаление. Более всего он был далек от того, чтобы на основе нового знания искать пути практического приобщения к этой силе. Он неизменно осуждал тех из своих учеников, которые нарушали жесткую мораль психоанализа и, поддавшись соблазну или экспериментируя для пользы дела, вступали в половые отношения со своими пациентками. Его официальный биограф приводит слова, однажды сказанные им: «Великий вопрос, на который нет ответа и на который я не смог ответить несмотря на тридцатилетний опыт исследования женской души, – это вопрос: чего же на самом деле хочет женщина». Его восхищение вызывали те героические фигуры, которые, подобно Моисею или Леонардо да Винчи, сумели освободить себя от непреодолимого давления своей сексуальности – совершить чудо, не предусмотренное теорией психоанализа.