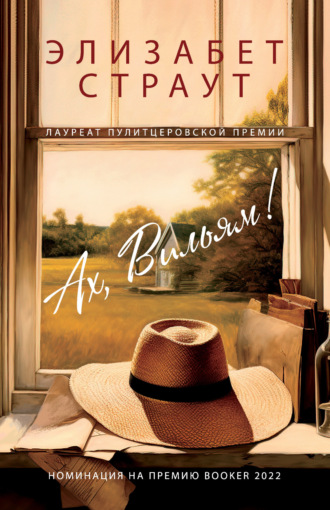
Полная версия
Ах, Вильям!
Бывшие коллеги Вильяма из Нью-Йоркского университета тоже пришли на юбилей, пожилые мужчины с женами, некоторых я знала еще с давних пор, и все было нормально. Только утомительно. Одна женщина, Пэм Карлсон, – я смутно помнила, что раньше они с Вильямом вместе работали в какой-то лаборатории, – так вот она напилась и много разговаривала со мной в тот вечер, и все о своем первом муже, Бобе Берджессе. Помню ли я его? Я сказала, что нет, к сожалению, не помню. На Пэм было стильное платье в облипку, какое мне и в голову не пришло бы надеть, – нет, сидело оно хорошо, такое черное платье без рукавов, правда, с довольно глубоким декольте, но руки у нее были худые и выглядели так, будто она занимается в спортзале, хотя она, вероятно, моя ровесница, а мне тогда было шестьдесят три – и пьяная она была по-своему трогательна; она кивнула на своего мужа, стоявшего поодаль, и сказала, что любит его, но часто ловит себя на мыслях о Бобе, а посещают ли меня мысли о Вильяме? И я ответила: «Иногда», а затем попросила меня извинить. Я подозревала, что еще бокальчик – и я сама все выложу про Вильяма и в какие моменты мне его не хватает, но делать этого я не хотела, а потому подошла к Бекке, и она потрепала меня по руке и сказала: «Привет, мамуль». А потом Эстель произнесла тост; на ней было платье с пайетками и изящной драпировкой на плечах; она красивая женщина с такими как бы непокорными рыжевато-каштановыми волосами, которые всегда мне нравились, и вот она произнесла тост, и я подумала: «Как хорошо у нее получилось. Но на то она и актриса».
– Мам, – прошептала Бекка, – мне тоже придется говорить тост…
– Ну что ты, – сказала я. – Никто тебя не заставляет.
Но потом Крисси произнесла тост, и получилось очень хорошо, я не помню его дословно, но вышло не хуже – а то и лучше, – чем у Эстель. Я помню только – в какой-то момент она говорила о работе Вильяма и сколько всего он сделал для своих студентов. Крисси высокая, пошла в отца, и никогда не теряет самообладания, это у нее с детства. Бекка взглянула на меня полными страха карими глазами и пробормотала: «Ох, ладно, мамуль». И сказала, поднимая бокал: «Пап, я пью за то, что тебя люблю. За это я пью. Я тебя люблю». И люди захлопали, и я обняла ее, и к нам подошла Крисси, и девочки очень тепло общались, так у них, по-моему, почти всегда; они всегда были, как мне кажется, почти неестественно близки, они живут в двух кварталах друг от друга в Бруклине, а потом еще я поболтала с их мужьями; муж Крисси работает в финансовой сфере, что для нас с Вильямом немного странно, но лишь потому, что Вильям ученый, а я писатель, и мы не знаем людей из мира финансов, и человек он проницательный, это видно по его глазам, а муж Бекки – поэт, боже милостивый, бедный малый, и, по-моему, он очень на себе зациклен. А потом к нам подошел Вильям, и все мы непринужденно болтали, пока кто-то его не позвал, и тогда он наклонился ко мне и сказал: «Спасибо, что пришла, Люси. Ты молодец, что пришла».
* * *Когда мы с Вильямом были женаты, порой я его ненавидела. С гирей глухого страха в груди я замечала, что за любезной отстраненностью, за мягкими чертами он недоступен. Даже хуже. Потому что за ореолом любезности таилась детская досада, гримаса, мелькавшая в душе, пухлый карапуз с оттопыренной нижней губой, который винит то одного, то другого, – он винил и меня, я часто это ощущала, он винил меня за то, что было никак не связано с нашей тогдашней жизнью, он винил меня, даже когда называл «милая», подавая мне кофе, – сам он кофе не пил, но мне готовил каждое утро, ставил передо мной чашку, точно мученик. Да оставь ты себе свой дурацкий кофе, хотелось выкрикнуть порой, я сама себе его приготовлю. Но я брала чашку, касаясь его руки. «Спасибо, милый», – говорила я, и мы начинали новый день.
* * *После праздника, пока такси везло меня по городским улицам и через парк, я думала об Эстель. Она такая красивая, с этими своими непокорными рыжеватыми волосами и блестящими глазами, и такая приветливая. У нее, сказал мне как-то Вильям, никогда не бывает депрессии, и, по-моему, он неосознанно пытался меня задеть, ведь я не раз страдала от депрессии за годы нашего брака, но тем вечером я подумала: «Хорошо, что у нее никогда не бывает депрессии». Когда они познакомились, Эстель болталась по театральным подмосткам. Вильям видел ее всего в одной пьесе, они тогда уже были женаты, пьеса называлась «Могила сталевара», поставили ее в небольшом независимом театре, и мы с мужем тоже пошли. Я просто опешила, заметив, что между репликами глаза Эстель невольно блуждают по залу, будто кого-то ища. Она ездила на бесконечные прослушивания, к которым готовилась дома, расхаживая по просторной гостиной и репетируя роль Гертруды, или Гедды Габлер, или кого-нибудь еще, и, когда приходили отказы, ничуть не расстраивалась. Зато она снялась в парочке рекламных роликов, один крутили по местному телеканалу, и там она рассказывала о дезодоранте: «Мне он подходит идеально. – Она подмигивала. – Спорим, – показывая пальцем в камеру, – подойдет и тебе?»
Им часто говорили, что они очаровательная пара. А еще Эстель хорошая мать, пусть и немного рассеянная. Так считает Вильям, и я с ним согласна. Бриджет тоже рассеянная, и они очень похожи внешне, мать и дочь, и это еще больше всех очаровывает. Однажды Вильям увидел, как Эстель и Бриджет гуляют по Виллиджу, – он сам мне рассказывал – они только что вышли из магазина одежды, и его поразило, до чего одинаковые у них жесты, когда они идут вот так и смеются. Эстель заметила его и суматошно замахала, а Вильям не из тех, кто размахивает руками на улице, и позже она шутливо его пожурила: «Когда жена настолько счастлива видеть мужа, ей хотелось бы думать, что он тоже рад ее видеть».
* * *Недавно, сидя у себя в квартире и любуясь городом – из окна у нас (у меня) открывается чудесный вид, – так вот, глядя на огни города, и на Ист-Ривер, и на Эмпайр-стейт-билдинг вдалеке, я думала о миссис Нэш, школьном психологе, которая отвезла меня в колледж перед началом учебного года, – боже, как я ее любила! По пути она вдруг свернула к торговому центру и, остановив машину, похлопала меня по руке: «Вылезай-вылезай», а когда мы зашли внутрь, приобняла меня за плечи, заглянула мне в глаза и сказала: «Через десять лет, Люси, можешь со мной расплатиться». И купила мне одежды; целый ворох футболок с длинным рукавом разных цветов, и две юбки, и две блузы, одна была такая симпатичная, в деревенском стиле; и что мне больше всего запомнилось и за что я больше всего любила миссис Нэш – это белье, которое она купила мне, небольшая стопка самого симпатичного белья, какое я только видела, и еще она купила мне джинсы моего размера. И она купила мне чемодан! Бежевый с красной каемкой, и, когда мы вернулись к машине, миссис Нэш сказала: «У меня идея. А давай сложим все внутрь?» И открыла багажник, и поставила туда чемодан, и открыла чемодан, и затем бережно и милосердно срезала каждый ценник малюсенькими ножничками, позже я узнала, что они называются маникюрными, и мы сложили в чемодан все мои вещи. Это ее рук дело, миссис Нэш. Через десять лет ее уже не было в живых, она погибла в аварии, и я так и не расплатилась с ней, но я никогда, никогда ее не забывала. (Всякий раз, когда мы с Кэтрин ходили по магазинам, я вспоминала тот день с миссис Нэш.) Когда мы приехали в колледж, я сказала вроде как в шутку: «Можно я буду делать вид, что вы моя мама?» И она удивилась, а потом сказала: «Ну конечно, можно, Люси!» И хотя я ни разу не назвала ее мамой, в общежитии она была со всеми очень приветлива, и, мне кажется, все и правда подумали, что это моя мать.
Всегда – всегда! – я буду любить эту женщину.
* * *Пару недель спустя Вильям позвонил мне из лаборатории – он любил звонить мне с работы – и снова поблагодарил за то, что я пришла к нему на юбилей. «Ты хорошо провела время?» – спросил он. И я сказала, что хорошо; затем я сказала, что беседовала с Пэм Карлсон и та все время говорила о своем первом муже, Бобе каком-то там.
Болтая с Вильямом, я глядела на реку, мимо на буксире шла огромная красная баржа.
– Боб Берджесс, – сказал Вильям. – Хороший был парень. Она бросила его, потому что он не мог иметь детей.
– Он тоже с вами работал?
– Нет. Кажется, он был общественным защитником в суде. А его брата звали Джим Берджесс – помнишь дело Уолли Пакера? Его как раз защищал Джим.
– Да ладно? – сказала я. Уолли Пакер был соул-певцом, которого обвиняли в убийстве подружки, а Джим Берджесс добился для него оправдательного приговора. В то время, а было это много лет назад, процесс получил большую огласку; его показывали по телевизору, и за ним следила вся страна. Я всегда считала, что Уолли Пакер невиновен, я это помню, а Джима Берджесса я считала настоящим героем.
Пару минут мы обсуждали это дело; Вильям сказал то же самое, что говорил прежде – какая я дурочка, что верю в его невиновность. Я не стала спорить. А потом вдруг спросила:
– А тебе-то праздник понравился?
Вильям ответил не сразу:
– Наверное.
– Что значит «наверное»? Эстель так старалась.
– Она заказала обслуживание, Люси.
– Ну и что? Зато она все организовала.
Баржа шла быстро; всегда удивляюсь, как быстро они ходят, сидела она неглубоко, наверняка пустая, черный низ корпуса высовывался из воды.
– Знаю-знаю. Нет, вечер удался. Ладно, мне пора.
– Пилл, – сказала я, – хотела спросить. Как твои ночи? Ну, твои ночные страхи?
И по его голосу я поняла, что из-за них-то он и позвонил.
– Ох, Люси, – сказал он. – Прошлой ночью меня снова посетил страх, часа в три, ближе к утру. Про Кэтрин… Это так странно, я даже описать тебе не могу. Она вроде как витает надо мной. – Помолчав, он добавил: – Думаю, придется пить таблетки. Я уже не выдерживаю. – Снова пауза. А потом: – Такое ощущение, будто Кэтрин совсем рядом, и это… Люси, это нехорошо.
– Ах, Пилли, – сказала я. – Как я тебе сочувствую.
Мы поговорили еще немного и попрощались.
Но вот что я вспомнила, когда Вильям заговорил о своем юбилее.
В конце вечера я пошла на кухню, чтобы поставить бокал и попрощаться с Эстель, та шла чуть впереди, и на кухне, прислонившись к столу, стоял мужчина, ее приятель, раньше я его уже видела, и Эстель тихо сказала ему: «Умираешь со скуки?» А потом обернулась и, заметив меня, воскликнула: «Люси, как же здорово было с тобой повидаться!» Мужчина сказал что-то в том же духе – приятный человек, тоже из театральной среды, – и я немного поболтала с Эстель, а потом мы попрощались и я поцеловала ее в щеку. Но мне не понравилось, каким тоном она разговаривала с тем мужчиной, в ее голосе были интимные нотки и – возможно – намек, что ей самой скучно, а это было мне вовсе не по душе. Я ощутила «укольчик», вот что я хочу сказать. Но потом этот случай вылетел у меня из головы.
А еще (об этом я тоже вспомнила после звонка Вильяма) перед уходом я заметила, что мои тюльпаны лежат на кухне в оберточной бумаге. Я не особенно расстроилась: квартиру украшал флорист, глупо было думать, что кому-то нужны купленные на рынке тюльпаны.
Саднил в памяти лишь голос Эстель.
* * *В начале того лета мой муж заболел, а в ноябре он умер. Это все, что я способна сказать прямо сейчас, добавлю только, что брак с ним сильно отличался от брака с Вильямом.
И еще: моего мужа звали Дэвид Абрамсон, и он был… Ах, как же мне объяснить вам, каким он был? Он был собой! Казалось, мы просто созданы друг для друга – правда, – хоть это и звучит как ужасная банальность, но… Нет, больше я сказать не могу.
Но знаете что, когда обнаружилось, что Дэвид болен, и потом, когда он умер, первым я позвонила Вильяму. По-моему, – точно не припомню – я сказала «Вильям, помоги мне» или что-то вроде того. И он помог. Он нашел моему мужу другого врача – не сомневаюсь, лучше прежнего, – хотя к тому моменту медицина уже была бессильна.
А потом, когда Дэвид умер, Вильям снова мне помог. Он помог мне с деловыми аспектами – когда человек умирает, столько всего нужно сделать, заблокировать кредитки, закрыть банковские счета, а сколько всяких паролей в компьютере, – и Вильям посоветовал: пусть Крисси займется похоронами, и это была очень умная мысль; Крисси все и организовала.
В те первые ночи со мной была Бекка, она плакала за меня. Она рыдала и рыдала с детским самозабвением и без сил падала на диван, а потом говорила что-нибудь – даже не помню, что именно, – от чего мы обе прыскали со смеху. Она такая, милая Бекка. Она смешила меня, но в конце концов ей нужно было возвращаться домой, и это было правильно.
Во время службы в похоронном бюро Манхэттена – служба как была, так и осталась для меня размытым пятном – Бекка прошептала:
– Папа хотел бы сидеть с нами.
– Он сам тебе сказал? – спросила я, поворачиваясь к ней, и она торжественно кивнула. Бедный Вильям, подумала я.
Бедный Вильям.
* * *Накануне Рождества мне позвонила Эстель и спросила, не хочу ли я отпраздновать с ними. Я сказала, что это очень мило с ее стороны, но я буду с девочками, и стоило мне это произнести, как я вспомнила слова Бекки о том, что Вильям хотел бы сидеть с нами на похоронах, и в голове у меня промелькнуло: а вдруг ему и Рождество хочется провести с нами, вдруг это он попросил Эстель нас пригласить? Но Вильям уже который год проводил Рождество с Эстель и ее матерью (и с Бриджет, естественно); Вильям и его теща были почти одного возраста. На Рождество в гостиной Вильяма и Эстель всегда стояла огромная елка, мне Бекка рассказывала, и вся квартира была нарядно украшена – нарядно, как в «Мейсис», с усмешкой добавила Бекка. На что я ответила: «И богато, как в “Саксе”?» – и мы рассмеялись. А после ужина Вильям с Эстель традиционно ходили на вечеринку где-то по соседству, ему всегда это нравилось.
– Понимаю. Тогда просто помни, что мы о тебе думаем, – сказала Эстель.
– Спасибо, – сказала я. – Спасибо вам большое.
– Мы знаем, без Дэвида тебе очень тяжело, – сказала она. – Боже, Люси… Мне прямо больно за тебя.
– Все нормально, – сказала я. – Не переживай. Но спасибо, – снова сказала я. – Правда. Я очень признательна.
– Ладно. – Эстель помедлила. – Ладно, – повторила она. – Ну пока.
* * *Итак, наступил новый год. И одно за другим с Вильямом произошли два события. Но сперва я хочу упомянуть кое-что еще.
* * *В январе Вильям рассказал мне – по телефону, из лаборатории, после того как мы поговорили о девочках, – что на Рождество он подарил Эстель дорогую вазу, которая приглянулась ей в одном магазине. А она подарила ему подписку на сайт, где ты можешь узнать свою родословную. Судя по тону Вильяма, подарок его разочаровал. Подарки всегда имели для него особое значение, которое мне не постичь. «Но это же гениально, – сказала я. – Какая хорошая идея, – сказала я. – Ты почти ничего не знаешь о своей матери, Вильям, это твой шанс». Точно помню, что я это сказала. А он сказал лишь: «Ну да. Наверное». Этот Вильям меня утомлял, этот обиженный мальчик под маской достоинства и любезности. Но я не обращала внимания, ведь он уже не был моим. Повесив трубку, я подумала: «Слава богу». Про то, что он уже не мой.
* * *Но вот о чем я рассказала бы этой женщине, Пэм Карлсон, если бы продолжила разговаривать с ней на юбилее. За пару лет до смерти Дэвида мы с ним отправились в Пенсильванию на свадьбу его племянника. Дэвид вырос в общине хасидских евреев в Чикаго, а в девятнадцать лет ее покинул; его подвергли остракизму, и он долгие годы не общался ни с кем из родных, пока с ним не связалась сестра, так что я не очень хорошо ее знала, она казалась мне чужой, она и была чужой. Сперва мы ехали на поезде, затем сели в машину его сестры и полчаса добирались в потемках до гостиницы в какой-то глуши. Накануне выпал снег, и я сидела на заднем сиденье и смотрела в окно на проносившуюся мимо тьму, изредка попадались одинокие дома, мелькали магазины – один с табличкой «Закрываемся навсегда» – и постройки, похожие на склады, и на душе у меня было тяжело. Потому что все это напомнило мне о Вильяме и как в молодости, когда я училась в колледже, мы ездили сквозь ночь из Чикаго на восток в гости к его матери, и мы как раз проезжали такие вот места, заснеженные и с виду заброшенные, но мне было так радостно с ним, мне было с ним уютно; как я уже говорила, у Вильяма не было ни братьев, ни сестер – в каком-то смысле к тому времени у меня тоже, – и тем вечером, сидя в машине с Дэвидом и его сестрой, я вспомнила, как же нам с Вильямом было уютно, ведь мы заключали в себе целый мир, и я вспомнила, как однажды в дороге он сказал, что я могу бросить косточку от персика в окно, и почему-то я бросила ее в его окно, он был за рулем, и косточка угодила ему в лицо, и, помню, мы смеялись и смеялись, будто на свете нет ничего смешнее. И потом еще, годы спустя, когда мы ездили в гости к его матери в Ньютон, штат Массачусетс, уже с маленькими девочками в детских креслах на заднем сиденье, ощущение уюта по-прежнему было с нами. Но тем вечером, когда мы с Дэвидом и его сестрой проезжали акры заснеженной земли и они вполголоса обсуждали свое детство, когда мы проезжали рекламные щиты с надписями «Попал в ДТП? Позвони в ТПП», я подумала: «Только с Вильямом мне было безопасно. Он – мой единственный дом».
Вот о чем я рассказала бы Пэм Карлсон, если бы не ушла.
* * *О своей бывшей свекрови, Кэтрин, я хотела бы сказать следующее.
Когда мы с Вильямом обручились, она взволнованно спросила меня, это было чуть ли не первое, о чем она меня спросила, мы разговаривали по телефону: «А ты будешь звать меня мамой?» Я ответила: «Попробую». Но у меня не получалось. Я могла называть ее лишь по имени, как Вильям. В девичестве она была Кэтрин Коул, и порой Вильям обращался к ней игриво и немного иронично: «Что новенького, Кэтрин Коул?»
Мы любили ее. Как мы ее любили – казалось, на ней зиждется наш брак. Она была полна жизни, лицо ее светилось. После знакомства с ней моя подруга из колледжа сказала: «Никогда не встречала человека, который бы так очаровывал с первого взгляда».
Ее дом меня восхищал; он стоял на обсаженной деревьями улице в Ньютоне, штат Массачусетс. Когда я впервые переступила порог, сквозь кухонные окна лился солнечный свет, сама кухня была просторная, с белым столом, и сияла чистотой. Все поверхности были белые, а над раковиной, на полке поперек окна, стояла крупная африканская фиалка. Кран выгибался длинной дугой и сверкал серебром. Я будто попала в рай. Во всем доме было чисто, деревянные полы в гостиной медово поблескивали, в спальнях висели белые накрахмаленные занавески. В жизни не думала, что смогу так жить. Даже не мечтала. Но так жила она! Нет, правда, в голове не укладывалось.
Небольшая оговорка.
Я уже писала об этом в другой книге, но напишу еще раз: когда Вильям рассказал мне, что его мать была замужем за картофельным фермером в Мэне, я решила – ведь я ничего не знала о картофельных полях Мэна, – что она жила в бедности. Но это не так. Ее первый муж, картофельный фермер Клайд Траск, держал хорошую, доходную ферму, вдобавок он занимался политикой, он много лет был членом законодательного собрания штата от республиканцев. А ее второй муж, отец Вильяма, стал инженером, когда приехал в Америку после войны. Так что Кэтрин была вовсе не бедна. Я не ожидала, что ее дом окажется таким элегантным. Думаю, она довольно высоко поднялась по социальной лестнице. Хотя я никогда не понимала всю эту классовую систему, потому что произошла из самых низов, а когда ты из низов, это не забывается. Словом, я так и не оправилась от этого, от бедности, от своих истоков, вот что я имею в виду.
Но в первую пору нашего знакомства, представляя меня своим подругам, Кэтрин касалась ладонью моей руки и тихо говорила: «Это Люси. Люси из бедной семьи». Я писала об этом в одной из прошлых своих книг.
В гостиной Кэтрин стоял длинный диван такого как бы мандаринового цвета, и если мы приезжали без предупреждения, а Вильяму очень нравилось так поступать, иногда мы заставали ее на этом диване. «Ой! Ой! – восклицала она, пытаясь подняться. – Идите сюда, я вас обниму», и мы подходили к ней, и она вела нас на кухню и доставала еду, без умолку болтая, без устали спрашивая, как у нас дела, уговаривая Вильяма постричься или побриться. «Ты такой красивый мальчик. – Она брала его за подбородок. – Зачем ты прячешь от нас лицо? Избавься ты от этих усов». Она была как солнце. Почти всегда. Но случались у нее и грустные дни, и тогда она говорила полусмеясь: «Что-то мне тоскливо», и Вильям говорил, что у нее это давно, ничего страшного, но даже в грустные дни она оставалась добра, интересовалась подробностями нашей жизни, наших друзей она знала по именам и про них спрашивала тоже. «Как там Джоанна? – спросила она однажды. – Еще не нашла себе мужа? – И, подмигнув, добавила: – Унылая особа».
Она любила сидеть за столом и смотреть, как мы едим. «Расскажите мне всё!» – просила она. И мы рассказывали. Мы рассказывали, как нам живется в Нью-Йорке, мы рассказывали, что у старого соседа снизу молоденькая жена, которая его не любит, и однажды я рассказала, как он встал посреди лестницы и не пропускал меня наверх, пока я его не поцелую. «Люси! – воскликнула Кэтрин. – Какой кошмар! Никогда больше его не целуй!» Я сказала, что мне придется, на что она ответила: «Нет, не придется». Я сказала, это был всего лишь поцелуй в щечку, но мне от него стало не по себе. «Ну конечно, тебе стало не по себе! – Кэтрин покачала головой и погладила меня по руке. – Люси, Люси, – сказала она. – Мое милое дитя».
Затем она повернулась к Вильяму: «А где были вы, молодой человек, пока домогались вашей жены?»
Вильям пожал плечами. Так он вел себя с матерью. Дразнился.
Кэтрин покупала мне одежду – обычно ту, что нравилась ей самой, но порой она и мне позволяла что-нибудь выбрать: рубашку в полоску, чтобы носить с джинсами, белое с синим платье с заниженной талией, я его обожала. Однажды она захотела купить мне белые лоферы. «Ты будешь в них жить», – сказала она. Я попросила ее не покупать мне лоферы, я не стану их носить; это она носит белые лоферы, вот что я подумала, но вслух не сказала, и в конце концов она их не купила.
Правда, через пару месяцев после свадьбы она избавилась от моего любимого пальто. Я купила его в комиссионке за пять долларов, оно было темно-синее, с огромными манжетами и развевалось при ходьбе – в общем, я обожала это пальто, в нем была вся я. А Кэтрин выбросила его, перед этим сводив меня в магазин и купив новое. Насколько я помню, она не выбрасывала пальто у меня на глазах, по-моему, она просто сообщила мне об этом, когда я спросила, где оно. «У тебя теперь есть новое, хорошее», – рассмеялась она.
Самое забавное – забавное в смысле «занятное» – в том, что новое пальто было из магазина, где продавались не особенно хорошие вещи. Долгое время я об этом не знала, пока сама не начала разбираться в магазинах. Но то был почти магазин для малоимущих. Хотя в мои школьные годы мы и в такой не пошли бы, мы вообще редко ходили по магазинам. Но у моей свекрови были деньги – отчасти потому, что ее муж, Вильгельм Герхардт, отец Вильяма, работавший инженером, застраховал свою жизнь на большую сумму. И, когда он умер, ей досталось много денег. А пару лет спустя она получила риелторскую лицензию и стала продавать дома в хороших кварталах. Так что деньги у нее водились. Вот я к чему.
Она отдавала мне свои старые ночнушки, они были хорошие, белые с вышивкой. Их я носила.
* * *Вспоминая Кэтрин, я поняла, почему Вильям во время своих ночных страхов утешается мыслями обо мне. Ведь если не считать наших девочек, которым было восемь и девять, когда Кэтрин умерла, из тех, кто был знаком с его матерью, осталась только я. Джоанна тоже не в счет. После развода с Вильямом она уехала на Юг. И больше не выходила замуж. Насколько мне известно.
* * *Как-то раз – еще до нашей с Вильямом свадьбы – Кэтрин попросила меня рассказать о своей семье, но стоило мне начать, и на глазах выступили слезы и я проговорила: «Не могу». И тогда она встала с кресла, и села рядом со мной на мандариновый диван, и обвила меня руками, и сказала: «Ох, Люси». Она повторяла это, поглаживая мои руки и спину и прижимая мое лицо к своей шее. «Ох, Люси».
В тот день она сказала: «У меня тоже бывает депрессия». И я была потрясена. Никто из моих знакомых, ни один взрослый мне этого не говорил – и она сказала это так буднично, а потом снова меня обняла. Я никогда этого не забуду. Она несла в себе доброту.
Кэтрин всегда приятно пахла, у нее была любимая парфюмерная линия, свой аромат. Потом я тоже стала пользоваться одной парфюмерной линией – не той же самой, – чтобы тоже иметь свой аромат. Но сколько бы я ни покупала пузырьков с лосьоном для тела, все мне было мало.
Услышав об этом, та милейшая женщина, мой психиатр, пожала плечами: «Вам просто кажется, что вы воняете».
И она была права.






