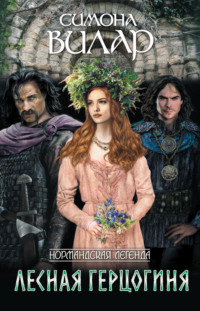Полная версия
Ветер с севера
И тут грей Леонтий приблизил к Ренье горбоносое лицо с иконописными очами:
– Вы зря так полагаете, светлейший. У вас, франков, смерти членов королевских фамилий не проходят незамеченными. Я читал ваши анналы и хроники. Их авторы порой забывают упомянуть дату рождения, но смерти – никогда. И если известно, когда умерли сыновья Эда и Теодорады, то о принцессе королевского рода Эмме нигде нет ни единого упоминания.
Теперь Ренье задумался. Эмма – дочь Эда Робертина, короля франков, помазанника Божьего. Племянница самого влиятельного сейчас в Западной Франкии человека – графа Роберта Парижского, младшего брата короля Эда. В свое время этот Роберт и сам мог бы после смерти брата стать королем, и стал бы, если бы сторонники возвышения Каролингов не поспешили короновать Простоватого. Что, однако, не помешало Роберту именоваться герцогом франков, защитником христиан, даже сам Простоватый величал его «вторым после нас во всех наших королевствах».
Размышляя об этом, Ренье ощутил облегчение. Если эта Эмма и впрямь существует, то она, племянника Карла Кародинга и могущественного Робертина, как раз та невеста, которая ему и нужна.
Но тут голос Леонтия заставил Ренье вернуться на землю.
– Дело за малым. Узнать, как обстоит дело с дочерью Эда и где она.
Ренье сразу помрачнел. Вращал машинально на запястье золотой наручень.
– Если о Эмме ничего не известно при дворе Карла, то могут понадобиться годы, чтобы разыскать её. А я не так молод и не могу долго ждать.
Леонтий улыбнулся, поплотнее кутаясь в пелерину.
– Здесь, за дверью, стоит палатин Эврар Меченый. Кому, как не ему, приближенному Эда, дать совет, где может пребывать дочь его былого хозяина.
Однако оказалось, что Эврару ведомо не так уж много. Да, он помнил принцессу еще рыжеволосой девчушкой. Покойница Теодорада тоже была рыжей, и дочь удалась в нее. Но как Эврар ни морщил лоб, не мог припомнить, как сложилась судьба девочки, после смерти родителей.
Зато как раз Эврар и посоветовал все вызнать у важной дамы Автгуды. Недаром та носила прозвище Автгуда Сплетница. И она всегда знала родословную Каролингов, вплоть до побочных отпрысков, прижитых с простолюдинками. Конечно Автгуда важная персона, к ней просто так и не подступишься. И тут Леонтий предложил попросту похитить эту даму. Отвезти ее в старую Молчаливую Башню, а уж там он сможет принудить ее все вспомнить и рассказать без утайки.
Что его нотарий справится, Длинная Шея не сомневался. Леонтий, безусловно, мастер развязывать языки, даже самого Ренье порой пробирала дрожь, когда он ловил дьявольское сладострастное выражение в глазах грека, докладывавшего о проделанной работе. Но что-то сейчас он тянет. Неужто благородная дама столь строго хранит придворные тайны? А если и ей ничего не ведомой?
Ренье уже шагнул к двери часовни, когда на пороге столкнулся с Эвраром.
– Все дьяволы преисподней! Что так долго?
Эврар с поклоном уступил герцогу дорогу, кивнув в сторону любопытных лиц, столпившихся неподалеку монахинь. Пришлось герцогу, сдерживая нетерпение, последовать за придворным к ожидавшим их лошадям. По дороге тот негромко проговорил:
– Автгуда умерла под пыткой.
Ренье уже положил руку на луку седла, но тут резко повернулся.
– Умерла? Что ж, выходит – все зря?
Эврар спокойно сел в седло.
– Как же! Когда это бывало, чтобы ваш грек не справился с работой? Старуха отдала Богу душу, уже когда её оставили в покое. Но Леонтий выглядел вполне довольным. Мне-то он ничего не поведал, оставив себе честь передать все вызнанное светлейшему герцогу.
Ренье торопливой рысью помчался к Молчаливой Башне. После прозрачного воздуха морозного дня из подземелья на него дохнуло смрадом. Немудрено, что Эврар, как и ранее, предпочел оставаться снаружи, Ренье же по выщербленным ступеням сошел под землю.
Леонтий с улыбкой поклонился ему как коронованной особе – трижды в пояс. Его подручные после проделанной работы ели похлебку из общего котелка, чавкая и гремя ложками. Со свету Ренье не сразу заметил тело дамы Автгуды в углу. Его накрыли дерюгой, из-под которой торчали лишь желтые голые пятки. Ренье брезгливо поморщился. В душном и одновременно сыром воздухе подземелья стоял густой дух паленого мяса, крови и пота. Его всегда занимало, отчего при пытках люди столь обильно потеют?
Леонтий, проследив за взглядом господина, пожал плечами.
– Здоровенная бабища, а ведь какая хилая оказалась. Мы только начали жечь ей живот, чтобы освежить память, как она сразу все вспомнила и разоткровенничалась, как на исповеди. Потом лежала и хныкала – и вдруг стихла. Наш Бруно глянул, а она уже отошла. Нехорошо как-то. Мы и священника не успели кликнуть, взяли грех на душу…
Ренье махнул рукой:
– Пустое. Говори скорей, что она поведала?
Леонтий, улыбаясь, протянул герцогу шуршащий пергамент с записью допроса. Византиец был аккуратен и любил, чтобы все было по форме. Однако, завидев нетерпение на лице герцога, заговорил, лишь порой поглядывая на записи в свитке.
– У короля Эда были сыновья, но все они рано умерли. Поэтому рождение дочери огорчило и разочаровало его. Новому королю из Робертинов нужен был наследник! К тому же, когда родилась Эмма, дела у Эда шли не лучшим образом. Он разбил норманнов, но не мог справиться с собственной знатью: феодалы никак не желали смиряться с тем, что ими правит не представитель прославленной династии Каролингов. Вот все недовольные Эдом и стали объединяться вокруг мальчика-подростка Карла, известного ныне под прозвищем Простоватый. Ведь в глазах знати именно он был сыном и братом Каролингов.
Эд прослышал про это, но он вел постоянные войны, отражая набеги викингов, так что не мог разобраться с недругами в своем государстве. Да и в семье у Эда не ладилось. Король часто бывал в разъездах, а Теодорада, считая, что Эд должен ценить её и уделять больше внимания, памятуя, что ради него она пошла против воли своих царственных родственников, беспрестанно закатывала ему сцены. И все же дама Автгуда, – да пребудет душа её в мире! – хмыкнул Леонтий, – все же утверждала, что этот брак был счастливым. Эти двое бешеных крепко любили друг друга. Столь крепко, что даже дети для них не много и значили. Особенно дочь. Когда родилась принцесса Эмма, ее сразу передали кормилице. Которой, впрочем, была не какая-то грудастая баба из простонародья, а супруге одного из ближайших соратников Эда – графа Беренгара из Байе. Звали её Пипина и была она из рода Анжельжер.
Леонтий заметил, что герцог, все это время нетерпеливо вращавший на запястье браслет, теперь смотрит внимательно. Грек снова просмотрел записи на пергаменте, словно опасаясь что-то упустить, а затем неторопливо продолжил. Говорил он, явно наслаждаясь собственным красноречием, изящно сплетая фразы, так, что даже его иноземный выговор казался незаметным.
– У графини Пипины в то время как раз тоже родился ребенок, – так утверждала дама Автгуда, – сын, получивший имя Эд в честь короля. Вот принцесса Эмма и жила в этой семье, считая ее своей. Тем более, что королю ее отцу пришлось сражаться с собственной знатью, какая все же помазала на царство Карла Простоватого. Эд пошел войной на Карла, и такова была сила и значимость этого короля, что войско Простоватого разбежалось, так и не приняв боя, а сам Карл укрылся в Бургундии.
Однако не успел Эд Робертин отпраздновать победу, как пришла весть, что умерла королева Теодорада. Говорили, что в последнее время ее мучили боли в подреберье, она почти не ела и истаяла как свеча.
Король Эд был сам не свой, когда узнал об этом. Он вернулся в Сите – Остров франков в Париже – и начал вести дознание. Ведь поговаривали, что Теодораду отравили… Тогда в пыточной ночами не гасли огни, крики жертв сливались с воем волков, а по утрам от башни отъезжала повозка с изувеченными телами тех, кого король заподозрил в пособничестве отравителям. Эд Робертин был поистине великий король и умел за все взяться с размахом.
– Какого черта, Лео! – взорвался наконец герцог. – Все, что меня интересует, так это жива ли его дочь и где она.
– Терпение, мессир. Дело в том, что дама Автгуда, опасавшаяся, что подозрения короля падут и на нее, – она ведь состояла при Теодораде, – вот и поспешила перебраться в Лион, старую столицу Каролингов, где в то время расположил свой двор вернувшийся из Бургундии Простоватый. Однако каленое железо заставило её припомнить, что, возвращаясь из пыточной, король часто шел в то крыло дворца, где с четой графов из Байе жила маленькая принцесса Эмма. Похоже, у Эда только теперь появились отцовские чувства к девочке. Позднее граф Беренгар с супругой покинули Париж.
– А дочь Эда?
– Её с тех пор никто не видел при дворе. Видимо король Робертин опасался за жизнь дочери. И пусть она не сын, но и дочери имеют права на корону. Поэтому их тоже убивают. Так, я помню из истории, что, когда заговорщики убили императора Калигулу, у которого была единственная дочь-наследница, малютку схватили за ноги и били головой о каменную стену до тех пор, пока она не превратилась в кровавое месиво.
Нотарий герцога любил просмаковать подобные сцены. Даже видавшему виды Ренье порой становилось мерзко. Но Леонтий заметил нетерпеливое, злое выражение на лице герцога и поспешил продолжить:
– После смерти короля Эда какое-то время еще вспоминали об Эмме, но потом её постепенно позабыли. Словно её и не было никогда. Даже те, кто считал, что дочь Робертина уехала с Беренгаром и Пипиной в Байе, не ведали ничего. Ибо еще до смерти Эда пришла весть, что граф Беренгар был убит после того, как его город был захвачен разбойником Ролло (у Ренье дрогнул угол рта). Говорят, этот безбожник и идолопоклонник превратил цветущий город в руины. Редким удачникам удалось спастись.
– Так, значит, выходит, что все зря… – вновь не утерпел Ренье. На сей раз голос его был полон уныния.
Леонтий торжествующе улыбнулся, но внимательный глаз герцога не упустил этого.
– Велю пороть, – тихо, но внушительно проговорил он.
Грек тотчас заторопился, панически шурша сворачиваемым свитком.
– Совсем недавно стало известно, что жена графа Беренгара не погибла. Рассказывали, что Пипина из Байе, униженная и растерзанная, пристала к группе беженцев, с которыми некогда прибыла в Анжу к своему брату Фульку Рыжему, графу этого города. Он поселил ее в одном из окрестных монастырей, где она пребывает и по сей день. Вместе с дочерью.
– С дочерью? Я не ослышался? Ведь ты сказал, что у них с Беренгаром сын?..
Он внезапно осекся, поняв. Губы его медленно поползли в сторону в усмешке.
Леонтий тоже блеснул зубами.
– И заметьте, господин, дочь Пипины тоже зовут Эммой.
Герцог откинулся в кресле, расправил плащ с драгоценной фибулой, на которой глухо сверкнул рубин.
– Ты хорошо поработал, Лео.
Потом, глядя на уголья, герцог пробормотал:
– Выходит, все так просто…
Он умолк, глядя на седеющие пеплом уголья на подиуме очага. Улыбка не сходила с его лица, но глаза смотрели в пространство.
Леонтий наблюдал за своим господином со скучающим видом. Он хорошо знал Ренье и понимал, о чем тот думает: есть принцесса королевских кровей, причем всеми забытая, беззащитная. Ну разве что граф Фульк, брат Пипины, может быть неким препятствием. Однако если осторожно разыскать эту девушку в глуши Анжуйских земель и удостовериться, что Эмма из Байе суть та самая Эмма из рода Робертинов (в чем Леонтий не сомневался – ему никогда не лгали на допросах), то забрать и привезти ее сюда не будет великой проблемой.
– Это следует поручить Эврару Меченому, – неожиданно вслух произнес Леонтий и прикусил язык, опасаясь, как бы герцог не заподозрил его в чтении собственных мыслей.
Однако Ренье Длинная Шея лишь задумчиво кивнул.
– Да, именно. Он добрый воин и преданный пес. И он единственный из моих людей сможет опознать Эмму. Он видел её. Как ты думаешь, Лео, может ли человек узнать во взрослой женщине девочку, которую видел совсем ребенком.
– Ну, – Леонтию стало смешно, – ваш вавассор скорей с первого взгляда отличит ковку секиры – рейнская или норманнская. Что же до женщин… Хотя этого вояку Бог разумом как будто не обидел. И он помнит, что девочка была рыжей, как и королева Теодорада. Что ж, возможно.
– Ступай, кликни его, – отрывисто приказал Ренье.
И прищурился на вскинувшиеся от дуновения хламиды грека язычки на угольях.
– Итак, Эмма… Рыжая Эмма.
Глава 2
908 от Рождества Христова.
Аббат Радон, тучный, рослый, с похожей на гладкий шар головой, обходил хозяйственный двор аббатства Святого Гилария-в-лесу. Было тихое предрассветное время после Вальпургиевой ночи[41], в которую особенно сильна всякая нечисть. И хотя братия лесного монастыря окропила все вокруг святой водой и вечером обошла процессией все село, ударяя веточками освященного самшита по кустам и деревьям, настоятель Радон лично пожелал убедиться, что силы тьмы не хозяйничали нынче в его владениях.
Но, кажется, везде царил мир. В предрассветном сумраке монахи меняли на скотном дворе подстилку, где навоз был перемешан с солью, мулы шумно хрустели овсом, свиньи томно похрюкивали, блеяли овцы, еще не обросшие после зимней стрижки, подавали жалобные голоса ягнята. И полное лицо аббата расплылось в отеческой улыбке, он не удержался, чтобы не войти в загон и не приласкать кое-кого из ягняток, нисколько не заботясь о том, как странно выглядит его расшитое узорами облачение в овечьем хлеву. Его посох с резным завитком на конце попридержал брат-ключарь – тощий старичок со скорбным лицом и венчиком седых вьющихся волос вокруг тонзуры, носивший имя Тилпин.
– Ваше благочестие, – негромко, но настойчиво проговорил ключарь, – скоро служба, вам пора быть в храме, а не среди безмозглых тварей.
Радон вытер пальцы о вышитую полу ризы и кротко вздохнул. Когда-то он бежал от насилия, крови и жестокости людского мира в эту глушь, создав здесь свой особый мирок, и, возможно, не слишком радел об обращении лесных обитателей-язычников, не журил местных женщин за колдовство, не разрушал старые языческие алтари у лесных источников, и тем не менее, Господу, видимо, была угодна его деятельность, раз он сподобил его в мире дожить до седых волос и принести покой всем обитателям этого края. Недаром в его обитель Святого Гилария-в-лесу на праздник мая со всей округи сходилось столько местных жителей.
Сейчас прибывшие на праздник селяне со своими женами и полудикими ребятишками расположились на лугу за стенами монастыря, где монахи угощали их утренней похлебкой. Среди этих диковатых лесных жителей выделялся рослый светловолосый торговец-разносчик, бог весть как пробравшийся через лес со своим ящиком с товаром, вызвав смятение всех деревенских кумушек. Но торговаться с разносчиком товаров им оказалось непросто: лоточник оказался немым, все больше мычал и очень скупо торговался.
Сейчас он сидел немного в стороне, длинноногий плечистый детина с длинными волосами, собранными сзади в хвост. И гладя на него Радон вдруг подумал: а не предложить ли этому угрюмому парню остаться в Гиларии-в лесу? Ибо аббат всерьез подумывал набрать тут некое подобие вооруженной стражи. И даже не столько для охраны от разбойников, сколько чтобы препятствовать своеволию то и дело заглядывавшему в аббатство Фульку Анжуйскому. Уж больно своевольно порой вел себя тут этот рыжий граф.
Сейчас, когда аббат наблюдал за немым торговцем, тот вдруг перестал перебирать свои гребешки и ленточки в коробе, а резко выпрямился и прислушался. И аббат помимо воли поглядел туда, куда смотрел немой. Тихая жизнь в лесу даже теперь не приучила Радона к благостному спокойствию, и первой его мыслью было о молодежи и монахах, разбредшихся по лесу в праздничное майское утро. Но его внезапно успокоил дребезжащий голос старичка Тилпина.
– Не обошло нас и в день празднования мая испытать на себе излишнее дружелюбие этого греховодника Фулька.
Радон перевел дыхание. И с важностью произнес:
– Не будем ворчать, мой добрый Тилпин. И не стоит забывать, что в селении под нашим покровительством проживает сестра благородного графа дама Пипина.
– Лучше бы рыжий Фульк себя обременил подобным покровительством, а не нас.
Аббат не ответил. Он уже видел, как на топе из леса показался всадник на ладном вороном коне. Было видно, как свет зари отразился на его коническом шлеме, блеснул на стальном острие копья. А когда он приблизился, Радон подумал, что раньше никогда не видел в свите Фулька Анжуйского этого воина с черными длинными усами и угрюмым лицом, пересеченным багровым шрамом.
После обыденного приветствия, едва заметив благословения аббата, воин спешился и сказал:
– Граф Фульк уже на подъезде к Гиларию-в-лесу. Он рассчитывает, что его встретят как должно.
Радон рассматривал говорившего.
– Ты новый вавассор Анжуйца? – только и спросил он.
Тот кивнул без всякого выражения.
– Мое имя Эврар. Люди зовут меня Меченый – из-за шрама. Я лишь недавно вошел в свиту Фулька Рыжего. И мне велено передать, что приезд графа связан с тем, что он вознамерился, согласно давнему уговору, обручить обвенчать своего сына Ги с Эммой, своей племянницей.
Брат Тилпин проворчал достаточно громко:
– Не дело это – венчать столь близких по крови родственников. Я не позволю совершить сего с монастырской воспитанницей. Эмма подобна ангелу, и не ей прибывать в смертном грехе…
Теперь Эврар Меченый усмехнулся.
– Что ж, попытайтесь, святой отец.
Было известно, что Ги, сын Фулька, тоже не торопился к своей невесте и даже, чтобы избежать брака, едва не принял постриг в монастыре Святого Мартина Турского. Однако отец едва не за волосы выволок его из соборной ризницы и теперь везет сюда.
Радон заметил, что рослый торговец тоже стоит среди монахов, прислушиваясь к речам посланца, но не придал этому значения. Сейчас он вспоминал, как одиннадцать лет назад Фульк Рыжий заставил его участвовать в обручении двух детей – шестилетней девочки с рыжими косичками и хрупкого девятилетнего мальчика с красивыми мечтательными глазами. Он тогда тоже не преминул указать на кровное родство между женихом и невестой, но уж если сама Пипина из Байе – дама в высшей степени благочестивая – ничего не имела против, то Бог им всем судья.
Внезапно Радон почувствовал, что даже рад приезду этого шумного, горластого Фулька. И хотя их встречи с графом редко когда проходили мирно, все же это было хоть какое-то событие в монотонной жизни лесного аббатства. И если бы только Фульк так не стремился подчинить себе Гиларий-в-лесу, на что тот часто намекал.
А вот поверенный Радона Тилпин в приезде графа видел только желание Фулька совершить богопротивный союз межу своим сыном и дочерью своей сестры. И старый монашек не на шутку разошелся: он взывал к небесам, топотал ногами, грозился отправиться в Реймс к архиепископу Эрве с жалобой. Монахи вокруг лишь посмеивались. В мире столько беззакония и зла, что духовному отцу франков вряд ли будет дело до того, что где-то в глухой деревне обвенчаются двоюродные брат с сестрой. Всем было известно, что брат-ключарь души не чает в девочке, выросшей у него на глазах, которую он обучил грамоте, а позже давал читать редкие рукописи, спасенные из сожженной викингами библиотеки в Сомюре. А когда со временем выяснилось, что дочь Пипины из Байе Господь наделил великолепным голосом и слухом, брат Тилпин заявил, что Эмма избранница Божья, и настоял, чтобы она с клириками пела в церковном хоре, пророча ей духовную жизнь среди монахинь. И всякий раз искренне огорчался, когда Эмма убегала от него поплясать с парнями на лугу или откровенно кокетничала с молодыми послушниками. А теперь еще и это решение Фулька о скоропалительной свадьбе…
Между тем преподобный Радон принялся отдавать распоряжения, готовясь к приему гостей. Фульк Рыжий хоть и являлся в лесную долину, чтобы повидать сестру, но останавливался всегда под гостеприимным кровом Святого Гилария. К тому же крохотная усадебка, в которой при монастыре жила его овдовевшая сестра с дочерью, казалась графу слишком неподходящей для его положения. Это Пипина решила жить в этой глуши, а Фульк Рыжий непременно требовал расположить себя с привычными удобствами. Ведь монастырь Гилария-в-лесу вполне большой монастырь со своей церковью и странноприимным домом, и за его отштукатуренными побеленными стенами Фульк чувствовал себя вполне комфортно.
Так что едва граф во главе отряда возник у кромке леса, он сразу направил коня в объезд хижин селения туда, где мост через ручей вел к воротам монастыря.
Воины Фулька Рыжего наполнили долину шумом, лязгом оружия, громкими выкриками. Их лошади испуганно ржали, шарахаясь от зашедшихся лаем деревенских собак. Привыкшие к тиши лесов местные жители откидывали дерюжные завесы дверных проемов и с любопытством взирали на явившихся из какого-то другого мира всадников. Женщины испуганно скликали детей. На опушке леса показались стайки привлеченной шумом молодежи, возвращающейся из чащобы с охапками майской зелени.
– Помилосердствуй! – едва не застонал Радон, когда граф, соскочив с седла, едва не задушил его в объятиях. – Сын мой, уважай хотя бы мой сан и облачение!.. Ах, дьявол, как же я рад тебя видеть!
Они обнимались, раскачиваясь, как два дюжих медведя. Дорогой посох с резной завитушкой, забытый, валялся в траве у монастырского крыльца.
Граф Фульк Рыжий был на полголовы ниже аббата Радона, но почти вдвое шире его в плечах. Кряжистый, коренастый, кривоногий, в удлиненном панцире из нашитых на буйволову кожу металлических блях с разрезами спереди и сзади для удобства езды верхом – он являл собой совершенный образ воина-правителя того времени. У него было живое и в то же время надменное лицо с рыжими вислыми усами и рябой от веснушек кожей. Его оранжево-золотые, до пояса, волосы были заплетены в три косы – две лежали на груди, позвякивая вплетенными в них золочеными украшениями, еще одна покоилась на спине. Крепкие ноги графа выше колен были оплетены крест-накрест толстыми ремнями с золотым тиснением, а голову венчал яйцевидной формы шлем из темной стали.
– Сатана тебе в глотку, Радон! – гремел Фульк. – Ты стал еще круглее с тех пор, как мы виделись последний раз во время тяжбы за Бертинскую пустошь. Я привез тебе в подарок лучшее вино из виноградников Совиньера. Слаще его не найти вдоль всей Луары. Что скажешь, старый пьяница-святоша, не опоздал ли я на празднование прихода мая в твоем аббатстве?
И тут же завертел головой:
– А где это отсиживается моя сестрица? Пусть пошлют за ней. Кстати, поп, известно ли тебе, что мы ехали в Гиларий, не сводя коней с рыси? Это в твою-то глушь, куда раньше едва удавалось прорубиться сквозь терновник. Я понимаю, что вам нужна дорога в обитель, однако в наши времена по такой широкой тропе сюда могут нагрянуть и кое-кто кого бы тебе лучше не знать. Так что подумай, не стоит ли тебе начать выплачивать мне за охрану этой лесной обители.
Радон набычился, склонив свою круглую голову с выбритой тонзурой.
– Крест честной! Да я вижу, ты по-прежнему не прочь обратить меня в данника, Фульк? Всем известно – если что-то хоть на миг прилипло к твоим ладоням – того уже не отодрать.
Но Фульк Рыжий был настроен благодушно.
– Так где же Пипина? Я привез ей племянника. Гляди, отче! Узнаешь ли ты моего Ги? Что скажешь? Вылитая Деленда – упокой, Господи, душу моей первой супруги.
Радон лишь мельком на указанного сына графа. Но вынужден был задержаться, когда юноша с почтительным видом подал ему оброненный посох, а затем скромно опустился на колено, испрашивая благословения.
– Во имя Отца и Сына и Святого духа… – наскоро сотворил знамение аббат.
«Они с отцом похожи не больше, чем дубовый пень и хрупкая ольха. Вот разве что нос, этот крупный нос с горбинкой от Фулька. Да и в посадке головы чудится что-то».
Он отечески положил руку на черные, слегка вьющиеся волосы юноши.
– Идем, сын мой. Гляди – уже процессия с зеленью выстроилась за селом. Надо их встретить у храма.
Аббат Радон был доволен тем, как чинно двинулась процессия. Несли хоругвь с шитым золотом изображением святого, блестели серебряные кресты, каноники с дымящимися кадильницами выступали по сторонам и во главе шествия. Радон, важный и полный достоинства, отряхивая с полы парадной ризы только сейчас замеченную овечью шерсть, возглавлял процессию. За ним попарно двигались монахи – все сплошь в островерхих клобуках, смиренно опустив очи и спрятав руки в широкие рукава сутан. Даже Фульк с его людьми присмирели и тоже держались чинно из уважения к таинству.
Деревенская церковь высилась в самом центре селения. Это была удлиненная деревянная базилика[42], производившая впечатление каменной – так гладко были отштукатурены и побелены ее стены. Кровля ее была тростниковой, но колокольня наверху с посеребренным крестом – он красиво розовел в лучах восходящего солнца. Над вратами храма, располагалась замечательная галерея, деревянные арки которой опирались на замысловатые колонны в виде статуй святых отшельников с длинными бородами. Вход в церковь в этот майский праздник украшали гирлянды зелени, и их нежный аромат смешивался с запахом сухого дерева и пропотевшей крестьянской одежды.