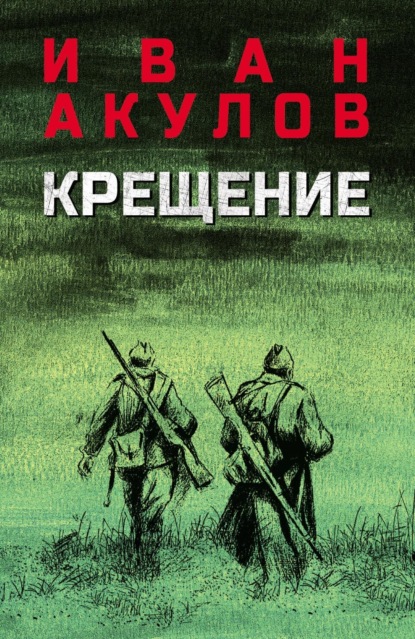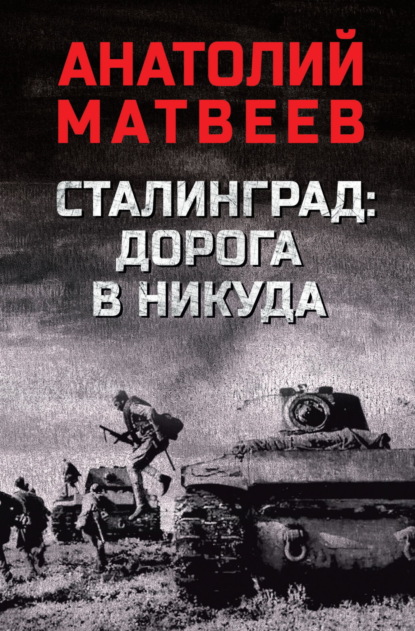Полная версия
Годы испытаний. Честь. Прорыв
И, помолчав немного, Канашов спокойно добавил:
– Теперь о Миронове… Всякие следствия по его делу прекратить. За проявленную инициативу при подготовке учений лейтенанту Миронову объявляю благодарность.
Ошеломленные, все переглянулись. И, когда Миронов срывающимся от волнения голосом сказал: «Служу Советскому Союзу!», послышался шум возбужденных голосов. Жигуленко первый подбежал к Миронову, протиснулся через толпившихся вокруг него командиров, схватил руку товарища:
– А все-таки молодец ты, Сашка! Отличился… Теперь о тебе будет говорить весь полк. Да что полк? Дивизия.
5Нет, Саша Миронов не был военным по призванию. В детстве он, тихий, болезненный мальчик, не увлекался военными играми, не мечтал о героических подвигах, хотя любил читать книги о смелых и сильных людях. В семье ему постоянно внушали, что он физически слабый, и даже не отпускали в пионерский лагерь. В школе Саша сторонился бойких товарищей, был замкнут. А в семье рос каким-то незаметным ребенком, был тише воды ниже травы. Заберется, бывало, с книгой в какой-нибудь укромный уголок и сидит там полдня, пока не позовут.
Отец заметил, что Александр жаден до книг.
– Читай, сынок, читай… Книги для человека – что земля, солнце и вода для растения, – говорил ему он.
Саша учился средне. Зато рано появилась у него склонность к рисованию. И в это же время он начал писать стихи. Старший брат Николай нередко смеялся над ним:
– Ну ты, Пушкин, пойдешь сегодня в кино?
Но когда Саша принес домой пионерскую газету со своими стихами и получил первый гонорар – сорок два рубля, отношение к нему резко изменилось. Даже девушки-одноклассницы, которые посмеивались раньше над его нелюдимостью, стали как-то многозначительно улыбаться при встрече. А он смущался, старался пройти мимо. Очень гордая девушка Инна, отличница их класса, на экзамене выручила его по алгебре, рискуя своей репутацией. Тогда же разнесся по классу слух, что она влюблена в Сашку «по уши».
На выпускном вечере десятиклассников, разгоряченная танцами, едва переводя дыхание, она вытащила растерявшегося Миронова на улицу. «Мне нужно тебе сказать, Саша, очень важное…» У него в кармане лежала страничка со стихами, посвященными Инне: он, волнуясь, нащупывал листок рукой, но не решался отдать. «А вдруг она меня высмеет? Нет, лучше как-нибудь в другой раз».
С вечера Саша провожал Инну. Ему хотелось многое сказать девушке, но он не отыскал подходящих слов. С каким-то незнакомым до этого чувством слушал он торопливую скороговорку Инны, часто прерывавшуюся веселым смехом. Ей, видно, тоже было хорошо с ним. Шагая рядом с Инной, он чувствовал себя счастливым впервые в жизни. Они долго стояли около ее калитки. Казалось, Инна чего-то ждала. И тогда наконец Саша решился: он протянул ей страничку со стихами. Она, как ему показалось, приняла их с некоторым недоумением. И вдруг неожиданно поцеловала его в щеку, звонко рассмеялась и, хлопнув перед растерявшимся Сашей калиткой, исчезла во тьме…
Может, это и была первая любовь? Но он не испытывал никаких ее мук, о которых пишут в романах. Приехав через год студентом института журналистики, он узнал, что Инна вышла замуж и куда-то уехала.
А зимой того же года в жизни Саши произошел крутой поворот: его старший брат, в то время уже лейтенант, командир стрелкового взвода, был убит в Финляндии. Получив от матери письмо, закапанное слезами, – некоторые слова так расплылись, что их не удалось прочесть, – Саша бросил учебу в институте и пошел добровольцем на финскую войну. Вместе с письмом матери пришла записка от младшего брата Евгения. Он с раннего детства спал и видел себя полководцем. В тот год он учился в седьмом классе. Рвался добровольцем, но «военкоматчики» были непреклонны. Тогда он вместе с товарищами решил «пробраться» на фронт. Купили военное обмундирование и ехали на товарных поездах до Ленинграда, где их задержали и вернули домой.
Брат писал: «Я ехал с твердым намерением отомстить за Николая, но мне еще не доверяют оружия, а напрасно. Я бы доказал, что могу воевать не хуже взрослых».
Но воевать и Саше не пришлось. Пока прошел подготовку, война окончилась. Он хотел было опять вернуться в институт, но с середины года этого сделать было нельзя. Год пропадал. Командование предложило ему поехать учиться в училище. Саша вначале колебался, потом согласился. Окончив военное училище, он не верил, что может быть командиром, считал: это не в его характере.
А сегодня, получив благодарность Канашова, почувствовал, что в нем признали командира, приняли в армейскую семью.
Глава десятая
1Канашов курил папиросу за папиросой, и в штабе стоял сизый полумрак.
Заместитель командира полка по политчасти Шаронов шагнул в дверь и, не различая, кто сидит за столом, крикнул грубоватым баском с порога:
– Товарищи, да ведь это безобразие! Дымовая завеса… (Шаронов был единственным некурящим командиром в полку.) Разве можно в таких условиях работать?
– Это я, Федор Федорович, надымил.
Шаронов узнал голос командира полка.
Гремя стулом, Канашов поднялся и распахнул окно. Дым столбом, как в трубу, потянуло наружу.
– А я уж испугался! Не пожар ли, думаю? Дыму, хоть топор вешай…
– Хорошо, что зашел, присаживайся. Ты мне нужен…
Шаронов положил кожаную папку, с которой почти никогда не расставался. На столе Канашова замполит увидел стопку военных журналов, а рядом подшивку «Красной звезды». Он изучающе поглядел на командира полка. «Видать, не в духе. С женой, наверно, опять поссорились…»
– Это ты отдал распоряжение начать расследование по делу Миронова?
– Я. А что?
– Зря. Надо было, Федор Федорович, хотя бы мне доложить…
Вон оно что, самолюбие задето…
Шаронов был уверен, что поступил правильно. И в таких случаях он был непримирим.
– Вчера из политотдела дивизии позвонили…
– Ну и пусть звонят! – раздраженно перебил Канашов. – Пока я командую полком. Нам надо самим разобраться, прежде чем поднимать шум.
– Михаил Алексеевич, я тебя не понимаю. Ты же знаешь, что я сам присутствовал и после лично беседовал с Горобцом. Вчера у них в батальоне прошло совещание командного состава. Некоторые требовали отдать Миронова под суд и исключить из комсомола. Таково мнение большинства. Это было ответственное совещание… Миронов халатно отнесся к такому важному учению, зазнался. Говорят, что он хотел ввести какие-то новые методы подготовки стрельбы. Разве допустимо так глупо рисковать людьми?
– Постой, Федор Федорович! Ты же не участвовал в «репетиции»…
– Как это не участвовал? – возмутился Шаронов.
– Ты же сам сказал, что присутствовал. А присутствуют сторонние наблюдатели. Ты на Горобца не ссылайся. Он испугался, вот и перестраховывается. Не верю я тому большинству, которое само ни черта не разобралось в этом.
– Я чувствую давно, что ты не доверяешь мне, но как можно не верить выступавшим командирам-коммунистам.
– А как можно им верить? Да, я никогда не соглашаюсь с теми, кто хочет отбить инициативу не только у Миронова, но и у остальных командиров.
– Ну, знаешь, Михаил Алексеевич, это уже слишком… Я старший командир и…
– Вот я и говорю с тобой как со старшим командиром и своим заместителем по политчасти. Всякие расследования во взводе Миронова прекратить. Нашим политработникам надо больше практически заниматься боевой подготовкой…
– Не моя забота заниматься военным обучением бойцов.
– Вот ты мне скажи: слыхал ли ты, что в батальоне Белоненко сержант Толокин уже второй год работает над усовершенствованием прицельного станка? Или, к примеру, что тот же самый Миронов предлагал новый способ подготовки данных для ведения огня в ночных условиях?
– Что-то слышал… Но ведь это прямое дело командиров – подхватывать новинки, внедрять их и прочее.
– Не только командиры, но и партийная организация должна оказывать им помощь, товарищ Шаронов. Да и у нас еще нет, как тебе сказать, взаимодействия между мною, как командиром-единоначальником, и тобою – заместителей по политчасти. То же происходит и в подразделениях… Вот Горобец не понимает Бурунова. А по-моему, он сильный политработник. Ведь он-то с делом Миронова разобрался… Случай произошел из-за плохой подготовки расчета минометной батареи полка. С Русачевым спорили чуть ли не до драки. Он запрещал знакомить с устройством мин минометчиков, пока бумажку не получим. Они вели огонь минами, свинчивая колпачки. И мины рвались на поверхности земли. Все у него секретно… Вот и досекретничались.
Шаронов недолюбливал замполита батальона Бурунова за самостоятельность в работе и считал его зазнайкой.
– Есть у нас, если хочешь знать, промахи и в твоей работе… О них уже говорят в печати, – добавил Канашов и, достав из планшета свежий номер окружной газеты, молча протянул Шаронову.
Тот удивленно пробежал глазами начало заметки, подчеркнутое красным карандашом:
«В полку, где заместителем командира полка по политчасти тов. Шаронов, инспекторская поверка показала, что бойцы неплохо разбираются в политических вопросах, в том числе и в вопросах хранения государственной и военной тайны…»
Шаронов прервал чтение и поискал подпись. Автором ее был один из его старых знакомых. Когда-то они вместе служили в одном полку заместителями командиров батальона по политчасти. В прошлом году этот автор окончил курсы военных журналистов и работал теперь корреспондентом окружной газеты. В этом году он вместе с представителями Политуправления округа приезжал на инспекторскую поверку политических занятий. «Ну, Аркаша Крилецкий всегда меня поддержит», – улыбнулся Шаронов. Но тут же улыбка сбежала с лица, как только он прочитал второй абзац:
«Однако бдительность в полку слаба. Есть случаи разглашения военной тайны. В полк свободно, без пропусков, проходят посторонние люди. Расхождение между словами и делом – очень серьезный порок. Политучеба не самоцель, а средство укрепления боевой мощи части. Пустая болтовня здесь крайне нетерпима…»
Шаронов гневно бросил газету на стол. Его полные, румяные щеки побледнели, в обычно спокойных глазах появился холодок негодования.
– Откуда у него такие сведения? Инспекция высоко оценила политподготовку части. У меня есть документы. Так я этого не оставлю!
– Погоди, погоди, Федор Федорович, не кипятись. Ты же нас, коммунистов, учишь сознательно относиться к критике, а сам, оказывается, ее не терпишь.
– Да какая же это критика? Это ложь! – нетерпеливо перебил Шаронов.
– Но ведь был же случай, когда наш красноармеец отправил домой письмо и написал, чем он занимается, где стоит наша часть и куда мы выходим в лагеря. Разве это не разглашение военной тайны?
– Да, но откуда у Крилецкого сведения, что у нас через проходную ходят, как через постоялый двор? А впрочем… – вспомнил вдруг Шаронов. – Я приказал пропускать инспекторов через контрольный пункт без пропуска, чтобы избавить их от бюрократической волокиты… Вот он и отблагодарил меня. Журналистская братия для красного словца не пожалеет ни матери, ни отца.
– И все-таки, Федор Федорович, этот корреспондент прав. Вовремя он ударил нас, хотя и больно. Клуб у нас захирел. Там только танцы. Бойцам и командирам нечем больше заняться. Ты вспомни, когда у нас в полку был доклад о международном положении? Вчера я присутствовал на занятиях у лейтенанта Миронова, так они меня забросали вопросами: «Сможет ли Англия устоять против Гитлера? Почему Германия прибирает Балканы к рукам?»
– Значит, плохо проводит политзанятия Миронов.
– Плохо, – согласился Канашов. – Но откуда он может все это знать?
– Пусть регулярно читает газеты, слушает радио…
– Для командира этого мало… И вообще нам надо собрать в ближайшее время партбюро и обсудить положение дел в полку. Дальше так работать нельзя…
«Так вот он каков, этот Канашов! – возмущался в душе Шаронов. – В полку неприятности, и он пытается свалить все беды на чужую голову. Придирается… Ничего, поглядим, кто из нас прав, кого поддержат на бюро коммунисты. Может, и действительно, прав начальник штаба дивизии. Многие неполадки у нас происходят из-за семейных неурядиц Канашова. Говорят, он разводится с женой. От многих слышал я, что бывает он грубым с подчиненными, к политработникам придирается. Не понимает, что их задача вести партийно-политическую работу, а не военному делу учить. Да и на партактиве дивизии говорили, что переоценивает он себя, за славой гонится».
Раздался телефонный звонок. Канашов взял трубку, говорил комдив.
– Есть, товарищ полковник, – сказал Канашов. – Выезжаю немедленно.
2Дождь только что кончился. В клочковатых тучах уже кое-где проглядывали голубые просветы неба. В открытую форточку доносился шлепающий звон больших прозрачных капель.
На столе Русачева лежало личное дело Канашова и несколько рапортов о чрезвычайных происшествиях в его полку за последние полгода.
Русачев задумчиво теребил подстриженные усы еще темные, но уже посеребренные сединой. Прошлый год на осенних смотровых учениях и инспекторской поверке дивизия могла завоевать переходящее Красное знамя, если бы полк Муцынова не подкачал со стрельбой. Тогда половина отличных оценок по всем видам боевой подготовки в дивизии приходилась на полк Канашова. «А получи дивизия переходящее Красное знамя, мне непременно дали бы генерала…»
Комдив с тревогой думал о том, сможет ли он сдержать слово перед командующим и на осенних смотровых учениях 1941 года завоевать переходящее Красное знамя. Не было ли это хвастовством? Набрать десять недостающих процентов отличных оценок по всем видам боевой подготовки – уж не такая трудная задача. А вот теперь он с каждым днем все больше убеждается, что надежда эта несбыточна. И с дисциплиной и с боевой подготовкой дело обстоит куда хуже, чем в прошлом году. Вчера у Канашова в полку опять чрезвычайное происшествие: на тактических учениях ранило двух бойцов. Русачев долго колебался, какое же ему принять решение…
Он встал и, заложив руки в карманы, прошелся по кабинету, потом сел за стол и начал писать рапорт командующему с просьбой ходатайствовать перед наркомом обороны о снятии Канашова с полка. Мысли Русачева прервал звонок начальника штаба. Вскоре он сам вошел в кабинет комдива.
– Прочти, Зарницкий… – Русачев протянул ему рапорт и, закурив, стал молча наблюдать за выражением лица подполковника.
Тот, беззвучно шевеля губами, то и дело кивал головой.
– Тут надо бы, по-моему, выделить одну мысль, – сказал, дочитав, Зарницкий. – Что эти неполадки объясняются в основном тем, что Канашов, бесспорно, зазнался. Для него не существует авторитетов. Вспомните, не было почти ни одного вашего приказа, чтобы его не осудил Канашов. По его мнению, все ничего не смыслят, ничего не понимают…
В кабинет, резко хлопнув дверью, вошел подполковник Канашов. Зарницкий, окинув его пристальным взглядом, попросил разрешения идти и, забрав какие-то бумаги, вышел.
Русачев выжидающе помедлил и наконец, прищурившись, сказал:
– Зазнались вы, товарищ Канашов, вот что я вам скажу. «Мой полк – первый, сам я – первый, мне все нипочем…» – Комдив вышел из-за стола и заходил по ковровой дорожке, скрипя хромовыми сапогами и рассыпая серебряный звон шпорами. Заложив руки в карманы широких, с напуском, галифе, он несколько раз прошел перед Канашовым и остановился у карты Советского Союза. Пристально поглядел на нее, словно что-то отыскивая, и, повернувшись к Канашову, громко проговорил: – Был первым… – Он измерил его насмешливо прищуренным взглядом и продолжал: – Мирное время, подумать только, а мы потери несем в людях. Что же будет на войне? Два человека в медсанбате… Да нас с тобой за это в три шеи гнать надо. Не умеешь командовать – уступи место тому, кто умеет… Людьми вы не дорожите.
– Откуда это видно?
– Видно, очень даже видно из того, как вы командуете полком. В зимних лагерях из-за вашего нового метода закалки в полку заболело более двадцати человек, из них пятеро – воспалением легких. Во время марш-броска в буран восемь бойцов обморозились. Осенью прошлого года вы нарушили приказ наркома, совершили марш не тридцать, а сорок километров. Один боец у вас умер, а пятнадцать легли в госпиталь из-за перенапряжения. Какие вам надо еще факты?
– Смотря как смотреть на эти факты, – возразил Канашов.
– Как ни смотри, а они бьют по тебе.
– Товарищ полковник, вы же знаете, что закалка принесла пользу полку. За два месяца в зимнем лагере не было ни одного случая обмораживания. В смерти бойца виноваты врачи. Они не знали, что у него тяжелый порок сердца. Нарком требует от нас готовить бойцов к действиям в любых, самых суровых условиях… Я так его понимаю.
– Но он не требует, чтобы разные там Канашовы, занимаясь какими-то выдумками, губили и теряли понапрасну бойцов в условиях мирной армейской учебы.
– Бойца надо готовить к преодолению всех трудностей походно-боевой жизни… А эти трудности будут иными, чем были в Гражданскую войну или в боях у реки Халхин-Гол и даже в сражениях в Финляндии. Современная война не только война моторов и техники, но и война мускулов и нервов.
Русачева больно задело упоминание Канашова о Гражданской войне, к боевому опыту которой командир полка, по его мнению, относился пренебрежительно.
– Знаю, знаю… На своего конька сел. Начитался всяких иностранных журнальчиков. «Современная война…» Привыкли щеголять красивыми фразами. Гражданская война тоже немалой крови нам стоила, но, прямо скажу тебе, терял я в атаке меньше людей, чем ты со своими дурацкими выдумками за один год учебы потерял.
Раздался звонок. Русачев взял трубку. Начальник штаба сообщил: Канашова срочно вызывают в штаб округа.
– Давай быстрей, – приказал комдив.
«Что бы это значило? Зачем вызывают?» – забеспокоился Русачев.
Зарницкий вошел мелкими, бесшумными шагами, будто был не в сапогах, а в войлочных домашних тапочках, и молча положил приказ округа.
– Можешь идти, – разрешил комдив.
Русачев сел за письменный стол и, словно не обращая никакого внимания на Канашова, стал читать.
Канашов удивленно глядел на Русачева и думал:
«Никак не пойму его! Боевой командир, любит армию. И вместе с тем все ставит под сомнение, противится всему новому. Неужели он не понимает, что эти новшества вводят не Канашовы или Ивановы, а сама жизнь. Конечно, эти новшества – хлопотное дело».
Русачев оторвался от бумаги, рассерженно глядя на спокойное, сосредоточенное лицо Канашова.
– И последний случай, товарищ подполковник, на тактических учениях… Опять кровь в мирное время… – Комдив вертел в руках листки бумаги… – Зарницкий доложил мне результаты расследования. А в этом безобразном самочинном захвате квартир тоже ваш полк отличился. Снова чрезвычайное происшествие. Меня интересует: знаете ли вы, наконец, к чему это приведет?..
– Пусть лучше в мирное время учатся с малой кровью, чем платятся большой кровью на войне. Прошлый год, когда в первый раз обучали пехоту идти за огневым валом, вы же помните, как они робко шли. А теперь вы сами видели, они уже уверенно атаковали, прижимаясь к огневому валу. – Канашов прервал речь. Глаза его горели, будто он атаковал сейчас сам.
– Ну а Зарницкий большой мастер составлять бумаги. Это я знаю.
– Как это составлять? Вы что, не верите?..
Русачев поднял трубку:
– Зарницкий, зайди-ка ко мне.
Вскоре в кабинет вошел Зарницкий.
– Вот тут Канашов берет под сомнение твое расследование… Изложи факты, пусть убедится.
– Товарищ полковник, да тут и без всяких докладов ясно. Минометный расчет не был подготовлен для такого ответственного занятия. Кроме того, в действиях отдельных командиров проявилась анархия. Шаронов рассказал мне, что лейтенанту Миронову стихийно пришла в голову мысль испробовать новый, ускоренный способ подготовки данных для стрельбы. Этот способ не проверялся никем. Надеюсь, и сам Канашов не будет отрицать этого…
– Разрешите доложить! – нетерпеливо перебил Канашов.
– Подождите, товарищ подполковник. Вам ясно, что изложил здесь начальник штаба?
– Ясно, товарищ полковник, но непонятно…
– Что же?
– Какой же он начальник штаба?
– Что? Молчать! Я запрещаю вам обсуждать действия Зарницкого. Вы забываетесь, подполковник. Кто из нас здесь старший? Пока что я командую дивизией…
– Чернильная душа вы, Зарницкий, а не начальник штаба!.. За весь год ни разу не были в полку… И о боевой подготовке частей судите только по бумагам да телефонным звонкам.
– Молчать! Прекратите немедленно…
Покрасневший, взбешенный Русачев выскочил из-за стола и почти вплотную подошел к Канашову. Зарницкий, до этого насмешливо улыбавшийся, испуганно взглянул на комдива.
Но лицо Канашова было спокойным. Он только расправил широкие плечи и подался вперед всем своим крепко сбитым туловищем.
Русачев резко отступил назад, губы его подрагивали.
– Вы, подполковник, не дорожите честью полка, которым вам доверили командовать, вы не выполняете мои приказы, вы оскорбляете моего начальника штаба… Я объявляю вам о неполном служебном соответствии. И буду ходатайствовать перед наркомом обороны об отстранении вас от занимаемой должности. Да и с семейными вашими делами надо разобраться как следует. Не к лицу так вести себя коммунисту в быту… Идите… Вы свободны.
3После прошедшего вчера партийного бюро полка Шаронов ходил весь день подавленный и расстроенный. «Везешь на себе, как вол, всю партийную работу, и тебя же ругают. И Канашов еще напирает…»
Несколько раз он намеревался зайти к командиру полка для разговора и каждый раз отговаривал себя. Но затем подавил чувство обиды и зашел.
– Здравствуй, Михаил Алексеевич. Хочу с тобой посоветоваться…
– Присаживайся, – сказал ему Канашов.
– Вот вчера на бюро ты упрекал меня – Чепрака копирую, единоличник в партийной работе…
– Конечно, единоличник.
– А на кого, разреши спросить тебя, мне сейчас в бюро нашем опираться? Парторг без году неделя как прибыл, большинство членов бюро в командировках, на заданиях и учениях… Один я как перст.
– Помнишь, на отчетно-выборном собрании за что коммунисты критиковали прежнего парторга?
– Собрание без критики – что борщ без соли, – усмехнулся замполит. – Мало указать, что плохо, а вот как сделать, чтобы хорошо было…
– Вот тебе соль: больше людям доверять надо, не нарушать принципа коллективности в работе бюро. А ты единоначальствовать в партийных делах начал. Сейчас для тебя главное – надо Ларионову помочь быстрее в дела наши полковые вникнуть.
– Да это-то так… Но и Ларионов какой-то, я тебе скажу, странный… Журналист… Вот его и тянет на острую тему. Ему бы с партийным хозяйством начать знакомиться, а он в дело с Мироновым встрял. Весь день потерял в батальоне, когда и без него разобрались. Чудак. Думает, все так просто… Поехал, поговорил и сразу скоропалительный вывод: Аржанцева обвинил, как коммуниста, ротную комсомольскую организацию тоже и Миронова заодно. А сегодня на практические занятия собрался к Горобцу. Пришлось подсказать, чтобы занялся своими партийными делами.
– Зря, Федор Федорович, зря удержал ты его.
– Это почему же?
– Да потому. Даже хорошо, что так. Пусть с коммунистами знакомится не по карточкам учета, а по их службе. Там виднее, кто из себя что представляет. Скорее узнает людей, ясней поймет полковые наши болезни.
Канашов закурил и задумался.
– Скажи ему, пусть семью привозит, – посоветовал он.
– А с квартирой как же?
– Две комнаты у Русачева только что добился…
Шаронов решил, что сейчас наступил самый подходящий момент поговорить о семейных делах и самого Канашова.
– Я давно хочу спросить, Михаил Алексеевич, что у тебя с семьей?
Канашов поднял голову и, глядя в упор на Шаронова, поморщился. Вопрос этот застал его врасплох, тем более что он сам еще не решил, как разрубить ему этот сложный семейный узел, а потому ответил неопределенно:
– А все так же, Федор Федорович…
Тогда Шаронов, не любивший говорить с людьми обиняками, спросил прямо:
– Скажи, это правда, что ты собираешься разводиться?
Канашов рассердился:
– К чему эти допросы? Что у тебя, нет материала для очередного политдонесения? Тогда пиши. Правда… собираюсь.
Вскочив со стула, он швырнул папку с бумагами на стол, лицо его побагровело.
– Ты, милок, сначала в своих делах разберись! Одно ЧП за другим валится на нашу голову… А ты в мои дела вмешиваешься. Здесь-то я как-нибудь сам разберусь.
И потом, вдруг вспомнив о чем-то, стал быстро рыться в бумагах.
– На! – Он подал Шаронову предписание, где говорилось, что замполит направляется учиться на курсы усовершенствования политработников. – Я рад, что ты едешь учиться, – мягко сказал Канашов, и глаза его засветились добрым светом, – я верю, из тебя выйдет хороший политработник, Федор Федорович… Ты трудолюбив, честен, хотя и бываешь излишне обидчив. А теперь давай поговорим по душам о моих семейных делах…