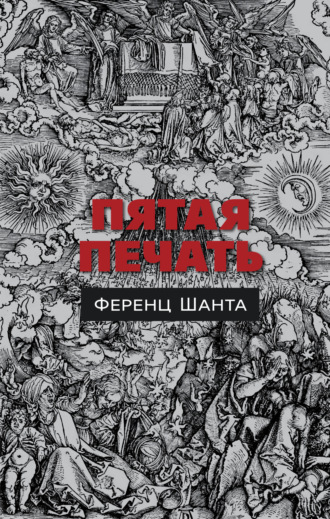
Полная версия
Пятая печать
– Да уж, честно сказать, – улыбнулся тот, – мог бы быть и пореже.
– А вот я как-то раз в такой туман попал, – начал Ковач, столяр, – пальцев вытянутой руки не видел. Было это в 1929 году, в то время я в Бекешчабе, на юге работал. И самое интересное, что это случилось в августе.
– Да какие, простите, туманы в августе, – возразил Кирай, поворачиваясь на стуле к новому посетителю.
– Уж коли я говорю, значит, так и было. Погодите, я объясню. Шел я ночью домой, и пришлось проходить мимо речки. Ночь была довольно прохладная, и над водой, примерно метровым слоем, стоял густой туман. Но только внизу, не выше метра, как я сказал…
– То был не туман, а пар!
– А что такое туман? Тот же пар и есть!
– Извините, но если б туман был паром, то так бы и назывался! Уж это-то могли бы знать.
Дружище Бела – трактирщик – уже был за стойкой и привычно протирал жестяную поверхность.
– Что прикажете?
– Я, по правде сказать, – улыбнулся низенький гость, – еще сам не знаю, чего бы мне заказать.
– Ну что же… подумайте, может, что и придет на ум.
Посетитель достал носовой платок и, покашливая, принялся вытирать нос и рот.
– Простудился вот… – сказал он и улыбнулся сидевшим у стола.
– Мороз… Прямо зима… – сказал книжный агент и, прикрыв рот ладонью, зевнул.
– Настоящая-то зима еще впереди! – заявил столяр.
– Конечно, до настоящей еще далеко, – согласился Кирай, – но для осени просто кошмарная стужа.
– Ну, раз далеко, – заявил Дюрица, изучающе глядя на вновь пришедшего, – то так бы и говорили, что на улице холод, а не мороз.
– Какой вы вдруг стали педант!
– Я отнюдь не педант, а просто люблю, когда правильно формулируют мысли. Попросите глинтвейна, сударь, – сказал он, повысив голос. – Это бы вам теперь в самый раз.
Невысокий гость улыбнулся и обратился к трактирщику:
– Глинтвейн? Это, пожалуй, и впрямь было бы хорошо.
– Да не слушайте вы его! – отвечал трактирщик. – Он вам наговорит! Глинтвейна у меня не было, нет и в обозримое время не предвидится.
Невысокий гость уже обтер носовым платком и щеки, повернулся к часовщику и как-то неловко, по-детски опять улыбнулся:
– Я вижу, вы все тут в замечательном настроении?
– Так что прикажете, сударь? – забарабанил пальцами по жестяной стойке дружище Бела.
– Тогда, может быть… просто пинту вина?
– Пинту вина, – отозвался трактирщик, снимая крышку с встроенной в стойку фарфоровой емкости.
– И где это вас, уважаемый? – беря в руки стакан, кивнул Дюрица на деревяшку. – Небось не в тыловой казарме, а где-то на фронте, в России? Или, может, вы оступились по молодости?
– Не извольте шутить такими вещами! – вмешался столяр. – А вы, сударь, если хотите присесть, пожалуйте к нам.
– Покорно благодарю, – сказал вновь прибывший и со стаканом в руке проковылял к столу. – Добрый вечер, – вновь поздоровался он, подойдя поближе. – С вашего позволения, я и впрямь ненадолго присяду.
– Присаживайтесь, конечно, – ответил Ковач и, отодвинувшись, освободил место за столом. – В тесноте да не в обиде… Какой разговор, садитесь!
– Весьма признателен, – сказал одноногий. – Пожалуй, сниму пальто, у вас так тепло здесь.
– Конечно, снимайте, – услужливо поднялся Кирай, бросив остерегающий взгляд на часовщика, который уже скривил было рот, глядя на усердие книжного агента. – Давайте я помогу вам, служивый.
Он помог инвалиду снять пальто и, несмотря на протест, сам отнес его к вешалке, пристроив рядом со своим.
– Все мы люди, все мы человеки, – сказал он, снова устраиваясь за столом.
Трактирщик тоже вернулся на место. Принес заказанное гостем вино, поставил перед ним, затем сел и, достав сигареты, предложил поочередно собравшимся.
– Ишь ты, никак вы разбогатели, дружище Бела? – удивился Дюрица, уставясь на пачку «Дарлинга». – А все плачетесь, как бедняк горемычный! Вон какое богатство в кармане.
Трактирщик с довольным видом улыбнулся:
– Да вы не подумайте… Это мне один капитан подарил!
– Что до меня, я таких вещей никогда не любил, – заявил Ковач, тщательно выбирая себе сигарету из пачки. – По совести говоря, никогда я не понимал и чего господа в них находят. Все равно что одеколону нюхнуть.
– Чего находят… чего находят… – приговаривал Кирай, тоже вытягивая себе сигарету. – Выдрючиваются. Не подумайте, господин Ковач, будто им это нравится. Им самим противно, но ничего не поделаешь, надо пустить пыль в глаза. Вот, мол, я какой барин, угощайся, братец! А сами плюются. Но мода есть мода.
Столяр кивнул:
– По-моему, господин Кирай прав. Наедине-то, поди, они такого не курят, по крайней мере, мужчины. Помнится, в бытность мою подмастерьем, когда я еще в Буде работал, у Тушека и Компании, довелось мне у такого вот барина состоятельного побывать. Так он, барин этот, на прощанье протянул мне сигаретницу, а там в одном отделении были сигареты «Левенте»[3], а в другом – вот такой же «Дарлинг». Причем шкатулку он так повернул, чтобы я взял «Дарлинг», а сам «Левенте» закурил.
– А может… – встрепенулся маленький посетитель, – он, может быть, для гостей держал эти деликатные сигареты, а сам любил что покрепче?
– Может, и так, – ответил Ковач. – Как бы там ни было, сам он закурил «Левенте».
– Да для форса это, – заявил Швунг, подождав, пока трактирщик наполнит его стакан. – Для форса, можете мне поверить. Не хочется хвастать, но по роду занятий мне приходится вращаться в таких местах, и, по-моему, я эту публику изучил. За столько-то лет. Люди они неплохие, но очень уж большое значение придают вещам, на которые мы и внимания не обращаем.
Трактирщик наполнил стаканы всем остальным.
– Это верно, – согласился он. – Я вот работал когда-то в Буде, как раз в Хювёшвёльде, у Балажа, и жил там в одной семье, небогатые, но порядочные, сердечные люди, вся семья как есть. А напротив жил какой-то статский советник. Крупной шишкой был в министерстве. Так вот, этот тип, представляете, по утрам в чем мать родила занимался гимнастикой на балконе: руками махал, приседал, подпрыгивал, стучал себя в грудь. И в жару занимался, и в стужу, каждый божий день.
– Видно, бзик у него такой был, – сказал Ковач.
Маленький гость наполнил себе стакан – ему-то хозяин трактира, естественно, не наливал, но теперь с нетерпением ждал, что он скажет, отведав его вино.
– Если позволите мне вмешаться, – начал новоприбывший, – я тоже как-то попал в одну такую господскую семью…
– А что у вас за профессия, позвольте спросить? – перебил его Ковач.
Маленький гость улыбнулся.
– Я, знаете ли, фотограф. – Он качнул головой. – Не хочу быть нескромным, но точнее будет сказать: мастер художественной фотографии. Кесеи. Меня зовут Карой Кесеи.
– Ах вот как? – прищурился на один глаз часовщик Дюрица.
– Я это не из хвастовства говорю, – продолжил фотограф, – просто сегодня, когда в нашем деле столько развелось халтурщиков, это нелишне подчеркнуть!
– Ну конечно, – кивнул книжный агент.
– Мастер, стало быть, – одобрительно отозвался столяр. – Вот так и в моем ремесле. Тоже не все равно, как человек работает. Люди копят, чтобы получить за свои кровные красивую вещь; не только полезную, понимаете, а еще и красивую. Потому и не все равно, как работает мастер. Правда?
– Совершенная правда, – ответил Кесеи. – А если еще добавить, какую радость вы получаете от того, что можете разделить с другими свой личный и, так сказать, более развитый вкус, – вот когда становится ясно, как много зависит от настоящего мастера, в данном случае – от мастера художественной фотографии…
Книжный агент отодвинул от себя стакан:
– Да ведь вкусы бывают разные. Что до меня, то должен признаться, что жизнь лишилась бы всякого смысла, будь вкусы у всех одинаковы! Осмелюсь сказать, у меня в этом случае пропало бы всякое желание жить. Вы только представьте: куда ни плюнь – всюду одно и то же. Возьмем книги, к примеру. Писатели будут все на одно лицо, и что станет тогда с их глубокими мыслями, которые не найдут выхода, ибо требуется только одно и то же. Боже храни нас хоть в чем-нибудь быть одинаковыми. Пусть всяк любит то, что ему по душе!
Фотограф сделал нетерпеливый жест и, все больше краснея, заговорил:
– Но я все же думаю – если мне вообще позволено что-либо думать, – я думаю, что возвышенный вкус имеет определенное право воздействовать на вкусы более низкие и менее развитые, чтобы те поскорее менялись. Возвышенный вкус, полагаю я, такое право имеет.
Дюрица снова прищурился и произнес на сей раз чуть тише:
– Ну-ну…
– Что вы сказали? – спросил фотограф.
– Я сказал: ну-ну, – ответил часовщик.
Фотограф вспыхнул. Все лицо его залилось краской.
– Простите, как это понимать?
– Да никак, – ответил Дюрица. – Продолжайте, почтенный…
– Не обращайте внимания, – сказал столяр Ковач. – Он любит других задирать.
– Словом, я полагаю, что если мы сами уже достигли какого-то совершенства, то наш долг как-то подталкивать, стимулировать отстающих, чтобы те поскорее меняли мнения и отказывались от своих устаревших позиций.
– Ну-ну, – в третий раз произнес часовщик и поднял стакан. – Вот кто может далеко пойти! – сказал он и отпил из стакана.
– Куда пойти? – не понял столяр.
– Далеко, – повторил Дюрица и продолжил: – Ну что же, будем здоровы, выпьем за то, что дорого именно нам, а не кому-то другому!
– Это верно, – подхватил хозяин трактира. – Не станем никого лишать радости, приглянулась кому дурнушка – пускай радуется на здоровье.
– Честно признаться, – сказал книжный агент, – я тоже считаю так, что ежели статскому советнику доставляет радость нагишом выплясывать на балконе, то и пусть себе пляшет или чем он там занимается. Я это, прошу заметить, совершенно серьезно, без тени сарказма сейчас говорю. В конце концов, если что и придает нашей жизни смысл, то это уверенность, что мы вправе поступать сообразно собственной воле. А иначе разве могли бы мы вообще называться людьми? Верно я говорю?
– Верно… Верно… – согласился хозяин трактира.
– Святая правда, – поддержал его Ковач. – Это надо быть дьяволом, чтобы с ней спорить!
Фотограф повертел перед собой стакан:
– Да… конечно…
– Вы только вдумайтесь, – продолжал Швунг. – Ваш этот советник, дружище Бела, то бишь статский советник, который голым разгуливал по балкону, он, наверное, потому и придумал себе это экстравагантное занятие, что мыслил не так, как простые люди. Я вовсе не осуждаю его, но представьте себе, что такому советнику поручили обеспечивать население хлебными карточками. Или еще до войны, положим, он должен был заниматься заготовкой зерна. И вот придет он под вечер домой, а в голове по-прежнему крутится: какой ожидается урожай пшеницы да ржи, или сколько необходимо распределить хлебных карточек, и, вообще, так ли пойдут дела, как ему хотелось бы? Ну подумайте, что у этого типа в черепке творится! Представляете, выходит такой господин на улицу, где множество женщин, мужчин, детей, влюбленных и стариков и всех прочих, и думает про себя: а ведь это их мне надлежит обеспечивать хлебом, это им выдавать пайки! И видит уже не людей, а дневные пайки! Вон, говорит, два пайка пошли, а там – один паек, а там – паек для старика, которому на следующий год, наверное, уже не понадобится хлебная карточка, бедолага ужасно кашляет и едва волочит ноги. А при виде подростков подумает: этим вот на будущий год уже взрослую норму давать придется!
Хозяин трактира рассмеялся:
– Ну и юмор у вас, господин Кирай!
– Я и сам понимаю, – сказал книжный агент, – что это звучит смешно, только на самом деле, дружище Бела, здесь нет никакого юмора. Представьте себе, к примеру, какого-нибудь высшего офицера, положим генерала из военного ведомства, отвечающего за укомплектование армии. Тоже ведь не простой человек, не такой, как все прочие. Как, по-вашему, он себя ощущает, проходя по улице? И видя перед собой людей, мужчин…
– Такие по улицам не расхаживают, – заметил столяр, – они на автомобилях ездят. Как и статский советник ваш – тоже, поди, на машине катался, не так ли, дружище Бела?
– Все так. За ним по утрам приезжала машина, потом обедать его привозила, а к вечеру снова домой.
– Ну, видите?
– Тогда уж тем более все так и есть, как я говорю, – повысил голос книжный агент. – Такой уже и не слышит людских голосов, а видит разве что, как они открывают рты да руками размахивают. Из машины для них люди и подавно – всего лишь пайки или военнообязанные, если иметь в виду генерала! Вы только представьте… Выглядывает он из машины и видит перед собой человека, у которого все на месте: не безногий и не безрукий, не одноглазый – и дочурку с собой прихватил на прогулку, ведет ее, предположим, в сторону моста Маргит. Вот когда что-нибудь подобное вижу я или любой из вас, что нам приходит в голову? Вот, мол, добропорядочный семьянин, примерный отец – поди, не в кабак направляется и не к любовнице, а исполняет просьбу жены, погуляй, мол, с ребенком, пока я обед готовлю да прибираюсь. А то и просто – ребенок давно свежим воздухом не дышал! Но это мы так думаем – а что думает генерал? Он говорит себе: «Что за черт?! Человек призывного возраста, здоровяк, почему не на фронте?!» Дружище Бела подмигивает столяру:
– С юмором человек, а?
– Да чего ж тут смешного, дружище Бела? – насупился Ковач, столяр. – Если задуматься, то станет понятно, что нету тут ничего смешного!
– Так вот, – продолжал Кирай, – к чему я все это рассказываю? А к тому, что большим людям жизнь представляется совершенно иначе, чем нам, простым смертным. Они совершенно другие. И знают прекрасно, чувствуют, что мы не чета им, не их поля ягода.
– Это с какой же стати? – изумился хозяин трактира. – Они такие же люди, как я или вы.
– Ну, это как посмотреть! С одной стороны, вроде так, а с другой – так вовсе наоборот. Вам разве приходила в голову мысль – вон, мол, военнообязанный идет? Вот видите, не приходила. У вас никогда и в мыслях не было, что для людей, которые попадаются вам на улице, вы начальник, хозяин или, так сказать, повелитель, словом, некто, от кого зависит жизнь этих людей. Вам ведь и в голову не придет, что вы лучше всех остальных. Верно я говорю? А у этих наоборот – хотят они или нет, в голове сидит мысль, что они сделаны из другого теста. Потому и ведут себя во многих вопросах совершенно не так, как другие.
– Все верно вы говорите, господин Кирай, – согласился, распрямляя затекшую спину, столяр. – Я тоже могу пример из жизни вам привести. Закончил я как-то работу в одном барском доме, и по этому случаю мне предложили остаться на полдник. А заготовлено к нему было столько, что за неделю не съесть. Сижу я на кухне, кухарка с подносами возится, потом принимается хлеб резать. Я не выдержал и спросил: «Что вы делаете?» А она мне: «Как «что делаю»?» – «Для кого вы, – спрашиваю, – эти ломтики нарезаете?» Потому как кусочки были такие тонюсенькие, что, поверьте, каждый не толще папиросной бумаги был. Как есть говорю вам! Просвечивали насквозь, человек, стоя рядом, дохнуть боялся, чтоб они со стола не слетели. И какой в этом смысл? Выдрючиваются только, как уже господин Кирай выразиться изволил.
Фотограф отставил стакан и, покашляв, заговорил:
– Но вполне может статься, дорогой господин Ковач, что высокопоставленные господа просто хорошо питаются и хлеб им не так уж нужен. Ведь много хлеба обычно едят в тех семьях, где более сытных продуктов в питании не хватает.
– Я вот тоже о чем-то таком подумал, но все-таки это странно, вы не находите? Не толще бумаги, право.
– Как бы там ни было, – заговорил книжный агент, – факт остается фактом: они во всем желают вести себя по-иному, чем остальные люди. Взять хотя бы манеру, когда муж и жена обращаются друг к другу на «вы». Послушать их – так они вроде и незнакомы, вроде и не привязаны друг к другу навечно. Но это бы ладно, их личное дело, в конце концов. Мне было бы интересно узнать, как всем этим господам, что занимаются хлебными карточками, да генералам и прочим большим господам, которые судьбы простых людей решают, – как им по ночам спится?
– Замечательно спится, – воскликнул Дюрица, часовщик.
– А вот мне, господин Дюрица, в это как-то не верится.
Ковач почесал в затылке:
– Оно так… Если вдуматься, то и впрямь невозможно поверить, что им так уж спокойно спится; ну как может спать спокойно… к примеру, премьер-министр? Или, положим, прокурор или верховный? Не говоря уж о королях. Или о полководцах, военачальниках.
Дюрица перевел сонный взгляд на фотографа:
– А вы где потеряли ногу, простите?
– Нельзя же так, господин Дюрица, – упрекнул его книжный агент.
– Почему же нельзя? Если бы он рассудок свой потерял, будьте покойны, я бы и не спрашивал его ни о чем. Вас ведь я ни о чем не расспрашиваю. Так что случилось с вашей ногой, сударь?
Фотограф покраснел и шевельнулся на стуле:
– Да ведь я не один такой, к сожалению. Не один…
– Мина?
– Она самая. Все как водится: излучина Дона и прочее!
– Вот видите, – снова заговорил книжный агент. – А вы говорите, что премьер-министр или военачальник могут спокойно спать. Сами-то вы могли бы спокойно спать, жить себе поживать, развлекаться, допустим, с женщинами, если бы именно вы послали этого человека на фронт, мол, вперед, исполняй свой долг?
Дружище Бела кивнул:
– Ну, понятное дело. Никто еще не видал на фронте министра или премьера. Встречал кто-нибудь премьер-министра с деревяшкой вместо ноги?
– Не бывает такого, – отрезал Ковач. – Потому что если б таким господам приходилось сидеть в окопах, то не было бы вообще никаких войн, уж можете мне поверить. Это такая же правда, как то, что я сижу перед вами на этом стуле.
– Я вам так скажу, – многозначительно воздел палец Швунг, – лучше всего быть простыми людьми вроде нас. Нам уж точно не из-за кого испытывать угрызения совести. Откуда им взяться? А представьте себе хозяина банка или завода. Или землевладельца. В каком они положении? Казалось бы, все у них замечательно, все есть, что душе угодно: роскошные дома, виллы на Балатоне, в Бёржёни или Матре. И куча прислуги, горничных, поваров, автомобилей, водителей и всего прочего.
– И никаких забот, это факт, – кивнул трактирщик.
– И от этого они никогда не умрут? – зевнул Дюрица.
– От чего?
– От того, что у них все есть.
– А знаете, господин Дюрица, на кого вы похожи? – спросил книжный агент. – На попугая из бакалейной лавки, который все время долдонит одно и то же: «К вашим услугам, к вашим услугам!»
– Умный попугай, – сказал Дюрица. – Умнее многих книжных агентов в Европе. Точнее, в Эйропе, прошу прощения.
Кирай вскинул голову:
– Чем опять я не угодил вам?
– О Боже, с чего вы взяли?
– Вы думаете, я не расслышал этой вашей «Эйропы»? Да, да, да, именно так произносят все культурные, цивилизованные люди. Я слышал это произношение от людей широчайших познаний. Но вы с такими, я полагаю, никогда не пересекались. И если для них Эйропа – это нормально, то и для вас сойдет.
– Браво! Советую вам отныне говорить в телефонную трубку «хэлло», вместо «алло», раз уж вы эйропеец.
Дюрица, рассмеявшись от собственных слов, с довольным видом посмотрел на книжного агента.
– Спокойствие, господин Кирай, – положил руку на плечо Швунга хозяин трактира. – Вы ведь знаете, он без насмешек минуты не проживет. Ему доставляет страдание то, как замечательно мы здесь сидим и мирно друг с другом беседуем. Продолжайте, прошу вас!
– Вот увидите, однажды его заберет нечистая, – сказал Швунг и отвернулся к остальным. – Словом, вы полагаете, что люди из категории, мною описанной, могут спать спокойно? Заблуждаетесь! Ну посудите сами, откуда берутся все их богатства, комфорт и все прочее? Откуда, позвольте спросить? А оттуда, скажу я вам, что другим жрать нечего…
– Да вон в портфеле у вас грудинка, – поддел его часовщик.
– Хорошо! А как быть тому, у кого в портфеле грудинки нет? – парировал книжный агент.
– И вообще, – поддержал его Ковач, – так ли часто она там бывает?
Кирай кивнул и, загасив сигарету, продолжил:
– Вот о том и речь. Они как сыр в масле катаются, в то время как у других забот полон рот. И вы думаете, они про это не знают? Есть писатель такой – Золя, так он в своих книгах про нищету эту все как есть написал. И знали бы вы, сколько его книг я реализовал в правлениях разных компаний. Причем многие члены этих правлений прямо мне говорили, что они очень любят этого автора. Стало быть, им известно, что написано в этих книгах и откуда все их богатство. В конце концов, они ведь не идиоты. Зачем наводить тень на плетень? Все эти люди прекрасно знают, что они негодяи.
– Ну… это еще куда ни шло, – сказал трактирщик. – А если взять всяких… министров да полководцев – тех, кто считает, что им полагается управлять людьми? Вот, к примеру, у одного из моих гостей нет ноги. Как это полководец или другой кто, отдавший приказ начинать войну, мог взять на душу это несчастье – вы уж простите, уважаемый гость, за мою откровенность, но ведь это правда. Вам уже никогда не стать тем человеком, каким вы были до этого.
Ковач, прищурившись, уставился прямо перед собой.
– Оно верно, конечно… – начал он, – но все же, дружище Бела, мне кажется, дело немного сложнее. Потому как, с одной стороны, может, вы и правы, а с другой стороны, кто-то ведь должен решать, кому и когда на войну идти, то есть что я хочу сказать – нельзя обойтись без власти, кто-то должен страной управлять, правительство, или премьер-министр, или государь… И может наступить время, когда страну потребуется защищать. Это ведь тоже правда, как ни крути. Разве я неправ?
Дружище Бела подался вперед:
– Вы кто по роду занятий, господин Ковач?
– Как это – кто?
– Я просто спрашиваю.
– Ну столяр я.
– Значит, в руках у вас ремесло?
– Разумеется!
– И людям всегда будут нужны стулья, кровати, столы и прочая мебель, которую вы изготавливаете?
– Ну… вообще-то, да.
– А могут лишить вас вашего ремесла?
– Ну, это едва ли. Точнее, я так скажу: если работать на совесть, не жульничать, не обманывать – никогда не лишат!
– Вот видите! Тогда какое вам дело, кто ваш заказчик? Кто с кем хочет воевать? Куда бы ни повернулся мир, вы всегда останетесь столяром, в вас и вашей работе всегда будет нужда. Так это, господин Кирай, или не так?
– Вопрос не такой простой, – погладил макушку книжный агент. – Непростой потому, что человек все же любит родину, и вполне может получиться так, что ее интересы окажутся для него важнее.
– Вы шутите, господин Кирай! Разве могут быть интересы, которые стоили бы войны? Я человек необразованный и этого никогда не скрывал, но даже мне понятно, что нет никаких таких интересов, чтобы из-за них войну начинать!
– Позвольте мне перебить вас, – откашлявшись, заговорил фотограф, – я вашим терпением не злоупотреблю: а вот если, скажем, кто-нибудь стал бы утверждать – подчеркну, что я только предположительно говорю, сам я такого не утверждаю, – что вы неправы, что бы вы сделали?
Дружище Бела пожал плечами:
– Да наплевать. Пусть себе утверждает. Какое мне дело?
Кирай хотел было что-то сказать, но фотограф знаком остановил его и продолжил:
– А если, позвольте предположить, ваш собеседник утверждал бы не только это, а заявил бы, что только идиот может высказывать такие суждения? Что тогда?
Дружище Бела, недоумевая, уставился на фотографа.
– Только поймите, – добавил фотограф, – я не хочу, чтобы вы неверно истолковали мои слова. Это не я говорю. Я только предполагаю, что некий человек так обозвал бы вас. Что бы вы сделали?
Хозяин трактира, как свойственно это людям сильным, порядочным, но не обладающим слишком большим умом, попытался сначала понять вопрос, а затем уж с предельной точностью на него ответить. Он наморщил лоб, облокотился на стол и положил на руки подбородок. Затем неуверенно оглянулся по сторонам.
– А хрен его знает, что бы я сделал, – сказал он и добавил, оправдываясь: – Уж простите за грубое выражение.
– Ну а все-таки?
– Это, наверное, зависит от того, с кем я имею дело.
– А точнее?
– Ну… я бы сказал ему, что он ошибается и что ничего идиотского в моих словах нет.
Дюрица рассмеялся. Рассмеялся впервые с тех пор, как они собрались за столом. Тут надо отметить: если читатель представит себе одно из тех неприятных лиц, в которых улыбка проявляет какое-то детское простодушие, то он увидит перед собой нашего часовщика, который воскликнул:
– Порядочный вы чудак, дружище Бела!
– Теперь это неинтересно, – живо перебил его книжный агент. – А скажите, дружище Бела, что бы вы сделали, если бы этот некто, этот субъект, продолжал настаивать на том, что вы городите глупости?
– …И что бы вы ему ни сказали, – подхватил фотограф, – твердил бы свое, в лицо называя вас идиотом?


