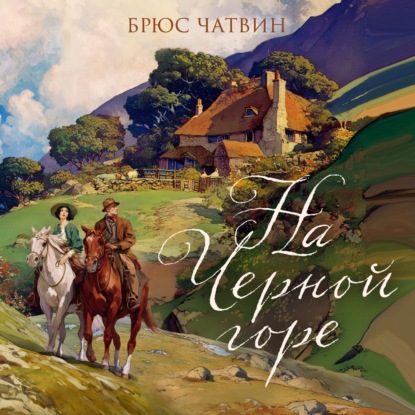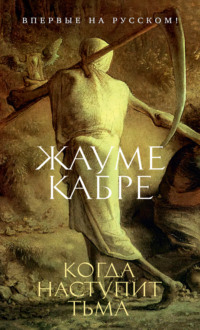Полная версия
Зимний путь
Вариация третья: три человека встали с мест. В четвертом и восьмом ряду партера. Некоторое время они стояли неподвижно, в знак протеста против неуважения к Шуберту. Их смелый шаг подхлестнул еще семерых или восьмерых любителей музыки в разных концах зала, они тоже встали и на несколько мгновений как будто превратились в депутатов величественного парламента, где подсчет голосов ведется по старинке. Однако Пере Брозу не было дела до голосования, его всецело занимала сложнейшая четвертая вариация, сочиненная на четыре голоса с имитациями, похожая на паспье[5]. Значительная часть депутатов требовала тишины в зале и обращалась к коллегам по парламенту с просьбой не валять дурака и сесть на место, красиво же человек играет. Хорошо, пусть не Шуберта, но очень красиво.
К началу пятой вариации члены правления филармонии вызвали импресарио Броза на совещание в вестибюле 2А, чтобы обсудить, что это за фокусы, и, пока они обсуждали, началась седьмая вариация, довольно короткая, совершенно виртуозная, подводящая итог всем предыдущим, наконец, просто блистательная, ее несомненно стоило послушать.
– Кто-нибудь знает, что это за музыка?
– Что-то неизвестное. Но гениальное.
– Я как-то слышал похожую пьесу Берио[6].
– Да ну, еще чего. Это Лигети[7]. Не знаю, что именно, но уверен, что Лигети.
– А вы, Пардо? Вы нам ничем не можете помочь?
– Что же мне делать? Выйти на сцену и оттаскать его за уши?
– Ты думаешь, это Лигети, да?
– Да, или кто-то вроде него.
– В суд на него подам. За нарушение условий контракта.
– Что с вами, Пардо? Вы плохо себя чувствуете?.. Ух, прямо на ровном месте… Звоните в «скорую», быстрее.
– Господи, ну и денек.
По окончании последней вариации Лигети или кто-то вроде него снова вернулся к основному мотиву, как будто желая мягко и деликатно подшутить над слушателями, и сказка кончилась тем же, чем и начиналась. И под конец пять нот главной темы, обнаженных, болезненных, и тишина.
Пере Броз встал, бледный от решимости и утомления. Однако в присутствии Шуберта было в тысячу раз проще играть что угодно, кроме Шуберта. Теперь он осмелился взглянуть на него повнимательнее. И тут же увидел, что человек в кресле под номером семь, то есть Шуберт, вскочил и восторженно зааплодировал. Однако в зале царила тишина. Франц Шуберт хлопал ему, широко улыбаясь, и Броз заметил, что у него не хватает зуба. В зале все еще было тихо. Вдруг из третьего яруса, с самого верху, раздались янтарные аплодисменты, восторженные и нежные одновременно, как будто слушателю, кто бы он ни был, хотелось поддержать невидимого и неслышимого Шуберта или бесстрашного Фишера, а может быть, и сумасшедшего пианиста. Понемногу начали хлопать тут и там, как будто нерешительно накрапывал дождик, перед тем как обрушиться на землю ливнем, и наконец вскочили все присутствующие в зале. Броз потряс книгой, на которой большими буквами было напечатано имя Фишера, удостоверился в том, что Шуберт не перестает аплодировать, и навсегда ушел со сцены, не оглядываясь назад.
Завещание
Стук кайла по каменной плите казался ему бессмысленно жестоким. Надгробия заранее не заготовили: смерть всегда застигает врасплох. Особенно если покойная никогда не болела. Ведь это ему, а не ей нездоровилось, это он долгие месяцы скитался по врачам! Он, а не Эулалия воображал, что жизнь на исходе! Это он всю неделю терзался, сдавая всевозможные анализы, страшась, что его болезнь неизлечима! Почему же умерла Эулалия, как судьба допустила такую нелепую ошибку?
Могильщики завершили свое дело, и в окружении родных и близких Агусти почувствовал себя безумно одиноким. Эулалия – смысл моих дней, моих желаний, ты лучезарно улыбалась, ты так старалась меня понять, ты всегда была рядом, милая моя, отдаваясь без остатка и ничего не требуя взамен, любимая. Тут он отвлекся, потому что Амадеу отошел в сторону и с привычной любезностью, почти незаметно, положил сложенную купюру в пять тысяч песет в ладонь прораба, а тот что-то пробормотал в благодарность.
Вдовец попытался произнести прощальную речь. Объяснить всем присутствующим, что Эулалия озаряла его жизнь, и немногими словами отдать скудную дань негасимой любви. Но только раскрыл рот, как залился слезами. Амадеу нежно положил ему руку на плечо, давая понять, что он не одинок в своей печали. Тут несчастный увидел, что все трое детей стоят с ним рядом, ошеломленно наблюдая, как навсегда скрывается под грубым камнем последнее, что осталось от матери, скоропостижно скончавшейся в пятьдесят лет. Вся семья была вместе. И Агусти невольно задумался о том, как хорошо они прожили двадцать восемь лет, как долго мечтали о ребенке и уже почти отчаялись, когда наконец Эулалия неожиданно зачала и появился на свет их первенец Амадеу… И снова долго-долго ждали, пока не родилась Карла. Вскоре после ее рождения супруги впервые сильно поссорились из-за его чрезмерно пылкого увлечения одной молодой женщиной, совсем не похожей на Эулалию; но все встало на свои места, и, как будто в знак примирения, когда Карле уже исполнилось пять, у них появился Сержи, младшенький, его любимец. Агусти взглянул на сына: у пятнадцатилетнего подростка недоставало сил, чтобы смириться со смертью матери, и он опирался на руку сестры. Карла всегда была для отца загадкой: как только ей исполнилось восемнадцать, дочь переехала жить во Флоренцию, а потом в Мюнхен и за два года прислала родителям ровно шесть открыток, в которых писала, что живет хорошо и передает всем привет, а теперь, пару месяцев назад, вернулась, как будто подгадала, чтобы ненароком не опоздать на материнские похороны. Карла утверждала, что собирается пойти учиться в Автономный университет, что поступает на факультет истории искусств, но отец был уверен, что главной причиной ее возвращения к ним была несчастная любовь. Не переезд это был, а побег. За два года она невероятно похорошела. Да она и с детства была красавицей: даже трудно было поверить, что у него могла родиться такая дочь. Агусти не знал, сколько мужчин было у нее в жизни, – Карла была для него загадкой. А старшего, Амадеу, сейчас больше заботило то, как чувствует себя его беременная жена, чем последние штрихи погребального обряда; отец втихомолку завидовал его здравому смыслу. Вот и сейчас сын умело помог ему избавиться от нескончаемых доброжелателей, толпившихся вокруг, чтобы принести соболезнования. Агусти и сам толком не заметил, как уже шагал по тропинке к машине, под ногами поскрипывали камешки, а в душе ныло странное чувство вины оттого, что он оставил Эулалию одну, никому теперь не нужную, забытую. Но сейчас ему предстояло самое трудное: научиться существовать без нее, заставить Сержи поверить, что оба они вполне способны жить дальше вдвоем, без мамы.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
«Музыкальные страдания капельмейстера Иоганнеса Крейслера»; из цикла «Крейслериана» (1810–1815) Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776–1822), перев. П. Морозова. –Здесь и далее примеч. перев.
2
D 960, Соната для фортепиано № 21 си-бемоль мажор, написанная Францем Шубертом в 1828 году.
3
«Зимний путь»(фр.).
4
Боже мой(нем.).
5
Паспье – старинный французский танец, несколько быстрее менуэта, но в остальном имеющий с ним немало общего.
6
Лучано Берио (1925–2003) – итальянский композитор, один из основных представителей европейского музыкального авангарда.
7
Дьёрдь Лигети (1923–2006) – венгерский и австрийский композитор и музыковед.