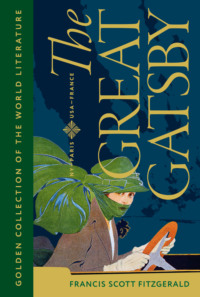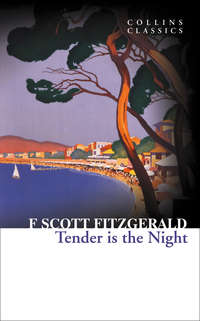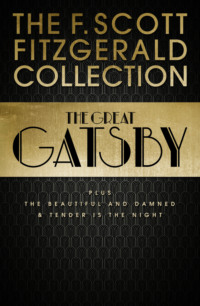Полная версия
Подшофе

Фрэнсис Скотт Фицджеральд
Подшофе
© New Directions Publishing Corporation, 2011
© Алексей Поляринов, предисловие, 2024
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2015, 2024
* * *Другой Фицджеральд
У каждого писателя есть свой поп-культурный шлейф – набор мемов и анекдотов, которые как бы закрепляют его место в массовом сознании. Достоевский – это мрачный Петербург, топор, болезнь и истеричные персонажи. Кафка – сновидческая логика, бесконечные фракталы иерархий и чувство вины. Такие упрощения не всегда вредны, но часто играют против писателей. Например, у Кафки с Достоевским репутация авторов тяжелой, мучительной литературы, которая уж точно вгонит вас в депрессию. А между тем всякий, кто читал К. и Д. достаточно много и внимательно, знает: у них отличное чувство юмора, и тот, и другой умеют писать невероятно, истерически смешные сцены. Надо только знать, где искать.
Примерно так же – но с точностью до наоборот – дела обстоят с Фицджеральдом. За сто лет у автора «Великого Гэтсби» сложился свой вполне узнаваемый поп-культурный шлейф – джаз, любовь к роскоши, пьянство, эпатаж, ревущие двадцатые. И каждый новый виток интереса к его имени – будь то экранизация романа или еще что-нибудь – лишь укрепляет миф. Фицджеральд давно застыл в образе с фотографий: идеальный костюм, прическа с прямым пробором, в руке – бокал шампанского или чего покрепче.
Наверное, именно поэтому первые три эссе из сборника «Подшофе» станут для некоторых откровением. Читатель ждет привычной уже фицджеральдовской витальности, а тут под обложкой – потемки души.
Вот две цитаты – одна из них из Фицджеральда, другая из Достоевского, – попробуйте угадать, где кто:
Пусть хорошие люди исполняют свои обязанности в качестве таковых – пусть умирают на работе перетрудившиеся врачи с их ежегодным недельным «отпуском», который можно посвятить приведению в порядок семейных дел, пусть врачи, не загруженные работой, дерутся за пациентов и берут по [рублю] за визит; пусть солдаты гибнут на поле боя и тут же попадают в свою воинскую Валгаллу. Это предусмотрено в их договоре с богами. Писателю ни к чему подобные идеалы, если он не примеряет их на себя, а ваш покорный слуга с этим покончил.
Даже самый тупой пошляк и самый бессовестный Распутин, способные влиять на судьбы многих людей, должны обладать какой-то индивидуальностью, поэтому весь вопрос сводился к тому, чтобы выяснить, в чем и почему я изменился, где возникла течь, из-за которой я, сам того не сознавая, непрерывно и преждевременно утрачивал свой энтузиазм и свое жизнелюбие.
Ладно, я вас обманул, обе цитаты из Фицджеральда. В том-то и дело – тексты из этой книги с первых страниц обезоруживают своей откровенностью: автор хвастается, выставляет напоказ – но не свою роскошь, а самые неприглядные стороны собственного характера; совсем как герой «Записок из подполья». Возможно, дело в обманчивой легкомысленности названия – когда-то в 1945 году первые три эссе выходили с другим, более подходящим словом на обложке: «Крушение». Потому что именно так – сокрушительно – они действуют на всякого, кто в них заглядывает.
Жизнь Фицджеральда – если подавать ее в сжатом виде, без особых подробностей – выглядит впечатляюще. Сначала он – красавец, выпускник Принстона, который после выхода дебютного романа в двадцать четыре года становится звездой и завсегдатаем светских хроник. Биограф Эндрю Тернбулл рисует Фицджеральда человеком огромных, буйных страстей, шутником и балагуром, который жил на полную катушку, был любимцем публики, много и разнообразно пил, просаживал огромные авансы от издателей, а в тридцатые, когда закончилась эпоха джаза, выгорел (или точнее будет сказать «прогорел»), спился и умер от сердечного приступа в сорок четыре года.
«Подшофе» в этом смысле – сборник уникальный, собранные в нем тексты придают биографии Фицджеральда новое измерение; оказывается, тонкий стилист и любитель красивой жизни был очень депрессивным, жестоким и беспощадным человеком – жестоким в первую очередь к самому себе. В Фицджеральде всегда жили два писателя, своеобразные доктор Джекилл и мистер Хайд. Джекилл писал романы о любви и богатстве, ходил на вечеринки и поражал окружающих своим жизнелюбием, Хайд – думал о самоубийстве и писал эссе с названиями «Крушение» и «Склеивая осколки».
В биографии Фицджеральда есть множество сцен, которые выглядят как веселый эпатаж. Писатель то и дело ведет себя как подросток, любит дурачиться и разыгрывать людей. Его легкомыслие – сквозная тема книги Тернбулла.
Однажды во время прогулки вместе с Перкинсом Фицджеральд нарочно загнал машину в пруд (ему показалось это забавным), и затем они с Зельдой, стоя по пояс и воде и смеясь, пытались вытолкнуть ее на берег[1].
По пути домой Скотт и Зельда, вместо того чтобы следовать по дороге, выехали на узкоколейку, и, когда их машина, застряв посреди рельсов, заглохла, оба заснули. Они наверняка угодили бы под колеса идущей утром в Ниццу дрезины, если бы не крестьянин, который вытащил их из машины, а затем с помощью быков столкнул машину с железнодорожного полотна[2].
Таких историй в его биографии – я не преувеличиваю – десятки! «Он упивался ролью заводилы», – пишет Тернбулл и далее рассказывает, как однажды, прогуливаясь по Монмартру и заметив копающегося в помойке бродягу, Фицджеральд присоединился к нему и затеял драку из-за кучи мусора.
Подобные выходки, возможно, кому-то и покажутся забавными. Знаете, есть такие люди – генераторы баек, мы всегда с удовольствием пересказываем их выходки на вечеринках: он смеха ради подрался с бездомным, ха-ха; а еще утопил машину в пруду, ему это казалось уморительным[3]. В таких историях всегда есть один нюанс: они на самом деле не смешные, когда мы думаем о них всерьез, мы понимаем, что это явно нездоровое поведение, и в жизни мы старались бы держаться подальше от человека, который может «ради смеха» или «от скуки» сотворить нечто подобное.
Таков был Фицджеральд – человек крайностей, и именно его эссе, написанные на закате жизни, дают возможность взглянуть на любимого автора под новым углом, увидеть в нем не лицо с фотографии, не набор анекдотов, не богемного персонажа из фильма База Лурмана, а настоящего, живого человека, который не справился с собственной жизнью, потерпел крушение и честно написал об этом.
Примечательно также, что собранные в сборнике эссе хронологически как бы движутся назад во времени: из 1936 года – в 1934-й и далее в 1920-е, в воспоминания о светлой жизни «до», и завершаются текстом о Нью-Йорке, в котором Фицджеральд подводит итог ушедшей вместе с ним эпохи. Книга перематывает время – от абсолютного отчаяния к абсолютному счастью.
«И последнее, что запомнилось мне из того периода, – пишет Фицджеральд, – это как однажды днем я ехал на такси между очень высокими зданиями под розовато-лиловым небом; я принялся громко кричать, ведь у меня было всё, чего я мог желать, и я знал, что больше никогда не буду так счастлив».
Таков сборник «Подшофе»: поток сознания человека, признавшего поражение, человека, который больше не борется с течением жизни, но ждет, жаждет, чтобы оно, течение, унесло его обратно в прошлое – во время, когда он был по-настоящему счастлив.
Алексей ПоляриновПредисловие переводчика
Один из писателей «Потерянного поколения», взрослевших в бурные двадцатые, Ф. Скотт Фицджеральд (1896–1940) в своих произведениях был выразителем «Эпохи джаза» – периода отказа от традиционных ценностей, эпохи сухого закона, нелегальных питейных заведений, а также резких перемен в искусстве. Первый роман Фицджеральда, «По эту сторону рая», имел финансовый успех, но более поздние произведения, в том числе его шедевр «Великий Гэтсби», особым спросом не пользовались. Стесненный в средствах, он начал писать коммерчески выгодные рассказы и сценарии для Голливуда, при этом беспробудное пьянство подорвало его здоровье и привело к безвременной смерти. Переиздание «Великого Гэтсби» в 1945 году (в издательстве New Directions) стало причиной нового всплеска интереса со стороны многочисленных читателей, и в настоящее время Фицджеральд считается одним из величайших американских писателей двадцатого столетия. В настоящее издание вошли тексты, так или иначе связанные с темой алкоголя, сборник был составлен издательством New Directions из журнальных публикаций и собственных архивов в 2011 году. Редакторские поясняющие вставки в квадратных скобках принадлежат составителям.
Виктор КоганИз записных книжек
1932–1940
«Вполне достойная модая женщина, вот только в тот день пила. Как бы долго она ни прожила, ей никогда не забыть, что она убила человека».
«С прелестным лицом и в высшей степени эффектна. Это потому, что образование я получила в Париже, чем, в свою очередь, обязана случайному замечанию, брошенному кем-то в адрес кузины Арлетты: мол, у нее милая взрослая дочь – которой в то время было всего двадцать два или двадцать три. Чтобы заткнуть рот кузине Арлетте, понадобилось три таблетки снотворного, и на другой день я отправилась в монастырь Сакре-Кёр».
– Джина у нас больше нет, – сказал он. – Не хотите таблетку снотворного? – добавил он с надеждой в голосе.
«Да, мэм, в случае необходимости. Вот, к примеру, приходит девица в одно из тех кафе, куда ей ходить не пристало. Ну а ее кавалер, слегка перебрав, засыпает, и тут какой-нибудь малый подходит и говорит: „Приветик, милашка“, – в общем, то, что обычно говорят подобные надоедливые наглецы в здешних краях. Что же ей делать? Закричать она не может, ведь в наше время ни одна настоящая леди не станет кричать, – нет, она, просто порывшись в сумочке, незаметно надевает на пальцы защитный кастет Пауэлла, по размеру подходящий для светских девиц, исполняет „Светский Хук“, как я это называю, и – бац! – этот детина летит прямиком в подвал»[4].
Заказать это можно в четырех разных объемах: demi (поллитра), distingue (один литр), formidable (три литра) и catastrophe (пять литров).
Расплывчатый мир вокруг карусели обрел привычные очертания; карусель внезапно остановилась.
Там не было ничего, кроме колледжей и загородных клубов. Парки унылые, без пива и почти без музыки. Кончались они либо детским городком, либо неким подобием французской аллеи. Всё для детей – и ничего для взрослых.
Дебют: первый раз, когда юная девица появляется в обществе навеселе.
Покупая галстуки, он вынужден спрашивать, не линяют ли они от джина.
Макс Истман: подобно всем людям с качающейся походкой, он, казалось, хранил какую-то тайну.
Выступление парнишки в защиту невинности его матери в баре лозаннского «Паласа». Его мать спит с сыном консула.
Коктейли перед едой, подобно американцам, вино и бренди, подобно французам, пиво, подобно немцам, виски с содовой, подобно англичанам, а поскольку нынче они живут уже не в двадцатых – та жуткая смесь, что напоминает коктейль в гигантском бокале, приснившийся в страшном сне.
Сэр Фрэнсис Эллиот[5], король Георг, ячменный отвар и шампанское.
Не пьет полгода и терпеть не может никого из тех людей, что нравились ему, когда он был пьян.
Посылаешь оркестру второсортное шампанское – никогда, никогда больше так не делай.
Лонсдейл: «Ты не хочешь так много пить, потому что совершишь кучу ошибок и расчувствуешься, а чувствительность деловым людям ни к чему».
Адреса у него в кармане – большей частью бутлегеры и психиатры.
От него редко пахло спиртным, потому что он заболел туберкулезом и уже не мог свободно дышать.
Возможно, пьяница, склонный к приступам сентиментальности, негодования или жалобной плаксивости.
Пьяница возле «Маджестика» и его забег на сто ярдов.
Он вернулся в ванную и залпом проглотил весь спирт для растирания, гарантировав себе сильнейшее расстройство желудка.
Впереди показались две коричневые бутылки портвейна с белыми этикетками, вскоре превратившиеся в чопорных монахинь, которые обожгли нас невинными взглядами, когда мы проходили мимо.
Когда он мочился, звук напоминал вечернюю молитву.
В двадцать лет пьяница, в тридцать развалина, в сорок покойник.
В двадцать один год пьяница, в тридцать один человек как человек, в сорок один веселый добряк, в пятьдесят один покойник.
Тогда на много лет я запил, а потом я умер.
Страшное бедствие
Решили мы гостей не принимать:Они приходят и сидят часами;Приходят, когда мы ложимся спать;И в сильный дождь они надолго с нами;Приходят, если гложет их тоска, –Пьют, веселея, душу бередят.А после, не оставив ни глотка,Уходят, распевая «Рубайят».Я был упрям: мол, у меня дела;Ходил небритый, в гости не ходил;«Джин кончился, кухарка умерлаОт оспы», – всякий вздор я городил.Мой тусклый взгляд, мой раздраженный тонТерпели все – и хамы, и друзья.Кто славой, красотой, умом не обделен,Те знали: беспокоить нас нельзя.А вот глупцы, зануды и невежи –Болтун, страдалец одинокий, плут, –Те, что, робея, к нам вторгались реже,Нагрянули толпой – все тут как тут.Молчанье как вниманье расценили,А гнев – как эхо их домашних ссор:С нас «сбили спесь»! –Но больше не ходилиПорядочные люди к нам с тех пор.Остатки индейки и многочисленные простейшие рецепты их погребения
Нынче, по прошествии праздников, все холодильники нашей страны битком набиты большими кусками индейки, при виде которых у взрослого человека неизбежно начинается приступ головокружения. Значит, видимо, пора мне, старому гурману, поделиться с хозяевами своим опытом использования сего избыточного материала. Некоторые из этих рецептов применяются в нашей семье на протяжении многих поколений. (Обычно это происходит, когда наступает трупное окоченение.) Рецепты собирали много лет – из старых поваренных книг, пожелтевших дневников первых английских колонистов, каталогов «Товары почтой», гольф-клубов и мусорных ведер. Они были неоднократно проверены и испытаны, о чем свидетельствуют надгробные камни, установленные по всей Америке.
Ну что ж, приступим:
Коктейль «Индейка». К большой индейке добавить галлон вермута и бутыль горькой ангостуры[6]. Взболтать.
…
12. Индейка с виски-соусом. Это рецепт для компании из четырех человек. Раздобудьте галлон виски и дайте ему вызреть в течение нескольких часов. Затем подавайте на стол – каждому гостю по кварте. На другой день следует добавлять индейку – понемногу, непрерывно помешивая и поливая соусом.
– Давайте не будем сейчас говорить о подобных вещах. Лучше я расскажу вам кое-что забавное, – напряженного любопытства в ее взгляде не отразилось, но он продолжал. – Просто оглянувшись вокруг, вы сможете произвести смотр самого многочисленного на моей памяти батальона мальчиков, когда-либо собиравшихся в одном месте. Похоже, для них эта гостиница – нечто вроде биржи… – он кивнул в ответ на приветствие отличавшегося болезненной бледностью грузина, который сидел за столиком в другом конце зала. – Этот молодой человек с виду почти не жилец. А тот чертенок, с которым я пришел повидаться, неисправим. Вам бы он понравился. Если он придет, я его представлю.
Пока он говорил, бар начал заполняться посетителями. Усталость вынуждала Николь мириться с необдуманными словами Дика и смешивалась с тем причудливым Кораном, что вскоре возник. Она увидела мужчин, собравшихся у стойки: долговязых и нескладных; невысоких, развязных, с худыми покатыми плечами; широкоплечих, с лицами Нерона, Оскара Уайльда или сенаторов – с лицами, которые вдруг делались по-девичьи бессмысленными или искажались, отражая похоть; нервных типов, которые ходили вприпрыжку, подергивались, таращились вокруг широко раскрытыми глазами и истерически хохотали; инертных молчаливых красавцев, стрелявших глазками по сторонам; грузных прыщавых мужчин с учтивыми манерами; или неопытных, с ярко-красными губами и хрупкими грациозными фигурами, то и дело резко, пронзительно выкрикивавших свое любимое слово «коварный», перекрывая при этом громкий гул возбужденных голосов; чересчур застенчивых, с подчеркнутой деликатностью оборачивавшихся на каждый неприятный звук; были среди них типичные англичане, весьма умело скрывавшие расовые предрассудки, типичные выходцы с Балкан, один сиамец с тихим вкрадчивым голосом.
– Думаю, мне пора спать.
– Я тоже так думаю.
…Прощайте, горемыки. Прощай, Гостиница трех миров.
Названия
Журнал «Праздная жизнь».
Красно-желтые виллы, именуемые Fleur du Bois, Mon Nid или Sans Souci[7].
Злоупотребил гостеприимством.
«Ваш пирог».
Несмышленый мальчуган.
Темные круги.
Вульгарная шляпа.
Беседы с пьяницей.
Увольнение Джазбо Меррибо. Очерк.
Высокие женщины.
Воздушные замки.
Странствия нации.
Неужели вы этого не любите?
Все пять чувств.
Мундир Наполеона.
Кабацкая музыка, пароходы, поезда.
Устарелый.
Всё отлично.
Кровать в бальном зале.
Книжка пародий под названием «Вышестоящие лица». Название для плохого романа: «Божий каторжник». Его последний шанс; Склонность к кинематографу; Любовь всей жизни; Гвен Баркли в двадцатом веке; В результате – счастье; Убийство моей тетушки; Полиция на похоронах; Вечность местного масштаба.
Крушение
1936
Крушение
02.1936
Разумеется, вся жизнь – это процесс разрушения, но удары, служащие причиной драматической стороны этого процесса, – те внезапные сильные удары, что, как представляется, наносятся извне, – те, которые вы запоминаете и во всём вините и о которых в минуты слабости рассказываете друзьям, оказывают действие не сразу. Есть удары иного сорта, те, что наносятся изнутри, те, которых вы не чувствуете, пока не станет слишком поздно оказывать сопротивление, пока вы наконец не осознаете, что в некотором отношении больше никогда не будете так же хороши, как прежде. Крушение первого рода, по-видимому, происходит быстро, второго же – почти незаметно для вас, но то, что оно произошло, вы осознаете совершенно неожиданно.
Прежде чем я продолжу изложение этой краткой истории, позвольте сделать замечание общего характера: мерилом первоклассного интеллекта является способность одновременно держать в уме две взаимоисключающие идеи и при этом сохранять способность действовать. К примеру, человек должен уметь оценивать положение как безвыходное и тем не менее быть исполненным решимости найти выход. Такая философия вполне подходила мне в начале моей взрослой жизни, когда я видел, как осуществляется неправдоподобное, маловероятное, а зачастую и «невозможное». При наличии определенных способностей вы были хозяином жизни. Жизнь без сопротивления подчинялась уму и старательности, как бы ни сочеталось одно с другим. Занятие преуспевающего литератора казалось полным романтики: вы никогда не станете так знамениты, как кинозвезда, но та известность, что вы заслужили, может оказаться более долговечной; вы никогда не будете обладать такой властью, как человек твердых политических или религиозных убеждений, но вы, несомненно, более независимы. Конечно, в рамках своего ремесла вы никогда не бываете довольны – но что до меня, то я не променял бы это ремесло ни на какое другое.
В конце двадцатых – а мне тридцать стукнуло чуть раньше, чем веку, – мои юношеские сожаления о том, что я не вышел комплекцией (или был недостаточно хорош), чтобы играть в футбольной команде колледжа, и о том, что во время войны я так и не отправился сражаться за океан, вылились в наивные мечтания о фантастических геройских поступках, убаюкивавшие меня бессонными ночами. Казалось, серьезные жизненные проблемы решаются сами собой, а если и были какие-то трудности, то их преодоление вызывало слишком большую усталость, чтобы думать о проблемах более общего свойства.
Десять лет назад жизнь была в значительной степени делом личным. Я должен был уравновешивать ощущение тщетности усилий и ощущение необходимости их предпринимать, убежденность в неизбежности провала и решимость «добиться успеха» – более того, приходилось устранять противоречие между мертвым грузом прошлого и благородными целями будущего.
Сумей я добиться этого, невзирая на обычные трудности – семейные, профессиональные и личные, – то ваш покорный слуга продолжал бы жить, как стрела, выпущенная из небытия в небытие с такой скоростью, что лишь благодаря силе тяготения она опустилась бы на землю.

Так продолжалось семнадцать лет, считая год запланированного безделья и отдыха в центре; очередная поденная работа выполнялась лишь в надежде на завтрашний успех. Да, жизнь была тяжелая, однако: «Лет до сорока девяти всё будет нормально, – говорил я, – на это можно рассчитывать. Это всё, чего может требовать человек, живущий так, как я».
…И вот, за десять лет до сорока девяти, до меня вдруг дошло, что я преждевременно потерпел крушение.
IIСобственно говоря, человек может потерпеть множество разных аварий – например, если произошла авария в голове, право принимать решения отбирают у вас другие! А после аварии в теле остается лишь покориться белому миру больниц. Возможна и авария в нервах. В одной нелицеприятной книге с кинематографической развязкой Уильям Сибрук[8] с некоторой гордостью рассказывает о том, как заботу о нем взяло на себя общество. Его алкоголизм был вызван коллапсом нервной системы – по крайней мере такова одна из причин. Хотя пишущий эти строки был не так безнадежен – в то время пил не больше стакана пива один раз в полгода, – у него как раз сдали нервы: чересчур сильный гнев и чересчур много слёз.
Кроме того, возвращаясь к моему тезису о том, что жизнь переходит в наступление лишь на время, факт крушения я осознал не одновременно с ударом, а в период затишья.
Незадолго до этого, сидя в кабинете одного замечательного врача, я выслушал тяжкий приговор. Сохранив остатки того, что при взгляде в прошлое представляется самообладанием, я продолжал заниматься своими делами в том городе, где тогда жил, не особенно переживая, не думая – в отличие от героев книг – ни о том, сколько еще не сделано, ни о том, что станется с тем или иным обязательством. Я был вполне обеспечен и при этом бездарно разбазаривал почти всё, что оказывалось в моем распоряжении, даже свой талант.
Но внезапно я инстинктивно почувствовал, что непременно должен остаться один. Я решительно никого не хотел видеть. Всю жизнь я встречался с несметным количеством людей; особой общительностью я не отличался, зато отличался склонностью отождествлять себя, свои идеи, свою судьбу со знакомыми представителями всех слоев общества, их идеями и судьбами. То я кого-нибудь спасал, то спасали меня – и так постоянно. Порой я до полудня успевал испытать ту же гамму чувств, что вполне мог бы испытывать Веллингтон при Ватерлоо. Я жил в мире тайных врагов и неотчуждаемых друзей и почитателей.
Но теперь я захотел остаться совершенно один и потому, позаботившись об определенной изоляции, отгородился от постоянных треволнений.
То время не было безрадостным. Я удалился туда, где было меньше народу. Как выяснилось, я очень устал. Я с удовольствием бездельничал, иной раз мог двадцать часов в сутки спать или лежать в полудреме, а в промежутках всячески старался не думать; вместо этого я составлял списки – составлял и рвал их, сотни списков: списки кавалерийских командиров, футболистов и городов, популярных песенок и питчеров, счастливых мгновений и любимых занятий, домов, где я жил, всех костюмов, приобретенных после армии, и всех пар обуви (я не принял в расчет ни купленный в Сорренто костюм, севший после дождя, ни парусиновые туфли и белую рубашку с запасным воротничком к вечернему костюму, которые я годами всюду возил с собой и ни разу не надевал, потому что туфли отсырели и слегка помялись, а рубашка и воротничок начали расползаться от крахмала и пожелтели). Составлял и списки женщин, которые мне нравились, и перечни случаев, когда я терпел пренебрежительное отношение со стороны людей, которые не были выше меня ни по положению, ни по способностям.
…И тут, как ни удивительно, я вдруг пошел на поправку.
…А едва услышав эту новость, дал трещину, точно старая тарелка.
Вот, в сущности, и вся история. То, что следовало предпринять, наверняка еще долго будет, как выражались в прежние времена, «покрыто мраком неизвестности». Достаточно сказать, что, полежав часок в обнимку с подушкой, я начал сознавать: уже два года я живу, используя ресурсы, которыми не владею, живу, отдавая себя в заклад целиком, телесно и духовно. Что такое по сравнению с этим сей скромный дар, возвращение к жизни? – Ведь когда-то была высокая цель, была вера в подлинную независимость.