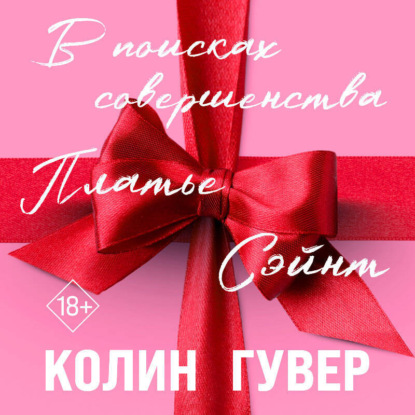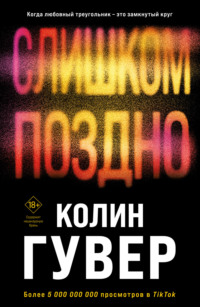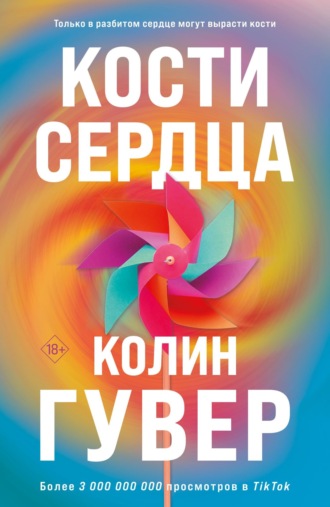
Полная версия
Кости сердца
Выросла бы я таким же недоверчивым, замкнутым, скрытным циником, если бы на мою долю выпало больше хорошего, чем плохого?
Может, да. А может, нет. Порой мне кажется, что страдания и жестокость оставляют на душе куда более глубокий отпечаток, чем доброта.
Доброта не проникает так глубоко под кожу, не наносит такого урона, как жестокость. Боль марает душу, и эти пятна уже ничем не отмыть: они остаются на виду. Иногда я думаю, что все мои травмы видно с первого взгляда.
Вероятно, моя жизнь сложилась бы иначе, если бы в детстве я сталкивалась с добром и злом в равной мере. Увы, это не так. Те разы, когда кто-то делал для меня что-то хорошее, можно пересчитать по пальцам. Чтобы сосчитать плохое, не хватит пальцев на руках всех людей в аэропорту.
Потребовалось немало времени, чтобы стать невосприимчивой к урону. Воздвигнуть стену, которая защищает меня и мое сердце от людей вроде матери. От мужчин вроде Дакоты.
Теперь я сделана из стали.Давай, мир, налетай. Мне ничего не будет – я непробиваемая.
Поворачиваю за угол и замечаю отца за стеклянной стенкой, разделяющей здание аэропорта на открытую и закрытую зоны. Секунду-другую медлю: осматриваю его ноги.
Обе.
Школьный выпускной был две недели назад, и, конечно, я не ждала, что отец приедет. Не ждала – и все же крошечная надежда у меня теплилась. Однако за неделю до выпускного он позвонил мне на работу и попросил передать, что сломал ногу и не сможет прилететь в Кентукки.
А сейчас я смотрю и вижу, что с ногами у него полный порядок.
Хорошо быть непробиваемой – такая ложь могла бы причинить немало боли.
Он расхаживает туда-сюда вдоль багажной ленты, при этом костылей у него нет, и он ни капельки не хромает. Я не врач, но даже мне известно, что кость не может полностью срастись за три недели. А если бы и могла, все равно перелом должен как-нибудь отразиться на походке.
Я уже жалею, что приехала. А ведь отец еще даже меня не увидел.
В последние сутки события разворачивались так стремительно, что я и очухаться не успевала. Мать умерла, я навсегда уехала из Кентукки и теперь должна провести несколько недель с человеком, с которым за всю свою жизнь провела меньше двухсот дней.
Но ничего, я справлюсь.
Никуда не денусь.
Я вхожу в зал выдачи багажа как раз в ту секунду, когда отец поднимает глаза. Он останавливается, однако руки из карманов брюк не достает – явно нервничает. Мне это по душе. Хочу, чтобы он помучился, чтобы ему стало стыдно за то, как мало участия он принимал в моей жизни.
Этим летом условия диктую я. Не представляю, каково жить рядом с человеком, который пытается наверстать упущенное время гиперопекой. Хорошо бы просто делать вид, что отца не существует, и даже не разговаривать с ним до самого отъезда в Пенсильванию. Так нам обоим было бы проще.
Мы идем навстречу друг другу. Он сделал первый шаг – значит, я сделаю последний. Мы не обнимаемся, потому что руки у меня заняты рюкзаком, сумкой и портретом матери Терезы. Я вообще не любитель обнимашек. Улыбки, крепкие объятия и прочие телячьи нежности не входили в мою повестку дня.
Мы неловко киваем друг другу в знак приветствия. Ясно же, что мы абсолютно чужие люди. Объединяет нас только фамилия и некоторое количество общих генов.
– Ух ты, – говорит отец, окидывая меня потрясенным взглядом и качая головой. – Ты выросла. И стала красавицей. Такая высокая… и…
Я выдавливаю улыбку.
– А ты стал… старше.
В черных волосах отца появилась проседь, лицо немного округлилось. Я всегда думала, что он красивый, но так думают про своих отцов большинство маленьких девочек. Теперь я повзрослела и вижу, что он действительно хорош собой.
Даже никчемные отцы могут выглядеть привлекательно.
В нем что-то изменилось – не могу понять что, но возраст тут ни при чем. И я не уверена, что перемены мне нравятся.
Он показывает пальцем на багажную ленту.
– Сколько у тебя чемоданов?
– Три.
Ложь срывается с губ сама собой – даже подумать не успеваю. Иногда прямо диву даюсь, как легко у меня получается врать. Очередной навык, необходимый для выживания с Жанин.
– Три больших красных чемодана. Я взяла все, что было, на случай, если решу остаться на несколько не-дель.
Раздается гудок, и багажная карусель приходит в движение. Отец встает у дыры в стене, откуда начинают выезжать чемоданы. Я закидываю за спину рюкзак – рюкзак, в который поместились все мои нехитрые пожитки.
У меня и одного чемодана нет, не то что трех. Просто я подумала: если аэропорт потеряет мой багаж, может, отец предложит купить мне новые вещи взамен утерянных?
Да, да, это наглая ложь. Знаю. Но и у него ноги целы, так что мы квиты.
Ложь за ложь.
Несколько минут мы ждем моего несуществующего багажа. Обоим ужасно неловко.
Наконец я говорю, что хочу умыться, и минут на десять ухожу в туалет. Перед посадкой в самолет я успела снять рабочую форму и надеть летний сарафан, который и так помялся в рюкзаке, а после моих скитаний по аэропортам и долгих часов в самолете стал выглядеть еще хуже.
Судя по отражению в зеркале, я не похожа на отца. Мамины русые волосы, тусклые и безжизненные, папины зеленые глаза. А еще его губы. У мамы были не губы, а почти невидимая ниточка, так что от отца мне все же досталась не только фамилия. И хотя внешне я отчасти похожа на родителей, я никогда не чувствовала себя их дочерью. Такое ощущение, что в раннем детстве я удочерила саму себя и с тех пор живу одна. Встреча с отцом кажется… просто встречей. Нет чувства, что я наконец вернулась домой. Или чувства, что я этот дом покидала.
Дом – некое мифическое место, которое я искала всю жизнь.
Когда я выхожу из туалета, остальные пассажиры уже ушли, а папа у стойки заполняет бумаги о пропаже багажа.
– На этот билет багаж не зарегистрирован, – говорит агент авиакомпании моему отцу. – У вас есть багажная квитанция? Ее обычно прицепляют к билету.
Отец вопросительно смотрит на меня. Пожимаю плечами:
– Я опаздывала, поэтому мама сдала чемоданы позже, когда мне уже выдали посадочный.
Я отхожу от стойки, якобы заинтересовавшись плакатом на стене. Агент говорит отцу, что нам обязательно позвонят, если чемоданы найдутся.
Отец подходит и указывает мне на дверь.
– Машина там.
* * *Едем домой. Аэропорт остался в десяти милях, а до дома, если верить навигатору, еще шестьдесят три. В машине пахнет лосьоном после бритья и солью.
– Когда устроишься, Сара может сходить с тобой по магазинам – купите самое необходимое.
– Сара? Это кто?
Отец смотрит на меня недоуменно – пытается понять, шучу я или нет.
– Сара. Дочь Аланы.
– Аланы?
Он переводит взгляд на дорогу, самую малость поджав губы.
– Моей жены. Прошлым летом я посылал тебе приглашение на свадьбу. Ты сказала, что тебе не вырваться с работы.
А! Теперь понятно, что за Алана. Я ничего о ней не знаю – кроме того, что было написано в приглашении.
– Не думала, что у нее есть дочь.
– Ясно. Ну да, в этом году мы с тобой почти не общались.
У него такой тон, будто он и сам затаил на меня обиду.
Надеюсь, это не так, потому что я совершенно не понимаю, как и за что он вообще может на меня обижаться. Я – плод его неправильных решений и плохой контрацепции.
– Нам многое нужно друг другу рассказать, – добавляет он.
О да, еще бы!
– Сара – единственный ребенок?
Господи, надеюсь! Весть о том, что придется провести лето с кем-то помимо отца, и так стала для меня серьезным ударом. Еще одного моя бедная нервная система просто не выдержит.
– Единственный. Она чуть старше тебя, только поступила в колледж, сейчас дома на каникулах. Тебе она понравится.
Это мы еще посмотрим. «Золушку» я читала.
Он протягивает руку к вентиляционной решетке.
– Тебе не жарко? Не холодно?
– Все нормально.
Хоть бы музыку включил, что ли. Не представляю, о чем с ним можно поговорить.
– Как дела у мамы?
Теряю дар речи.
– Она…
И вот как ему сообщить? Я слишком долго тянула, а теперь, наверное, уже поздно – надо было сказать еще вчера, по телефону. Или когда мы встретились в аэропорту, на худой конец. А сейчас это наверняка покажется отцу странным. Вдобавок я соврала ему при агенте, что на самолет меня посадила мама.
– У нее все хорошо. Впервые за долгое время.
Тянусь к рычагу сбоку, чтобы откинуть сиденье, вместо рычага нащупываю кнопки и жму все подряд, пока спинка не начинает опускаться.
– Разбудишь, когда приедем?
Отец кивает, и да, на душе у меня немного скребут кошки. Но ехать-то еще долго, а мне сейчас хочется одного: закрыть глаза, уснуть и больше не отвечать на неудобные вопросы.
3
Просыпаюсь от сильной встряски: голова мотается туда-сюда по подголовнику, все тело вздрагивает. Распахиваю глаза.
– Паром, – поясняет отец. – Извини, тут всегда трясет – заезд неровный.
Я в смятении оглядываюсь по сторонам, непонимающе смотрю на отца… Наконец потихоньку восстанавливаю картину происходящего.
Вчера умерла моя мать.
Отец по-прежнему не в курсе.
У меня есть мачеха и сводная сестра.
Выглядываю в окно, но за плотными рядами ничего не видно.
– А почему мы на пароме?
– Навигатор предупредил о пробке на Восемьдесят седьмом шоссе, поездка удлинилась на два часа. Авария, наверное. Я решил, что в это время дня быстрее добраться до Боливара на пароме.
– Куда-куда добраться?
– На полуостров Боливар. Там у Аланы летний дом. Отличное место, тебе понравится!
– Летний, говоришь? – Я вскидываю одну бровь. – У твоей жены по дому на каждое время года?
Отец смеется, а ведь я и не думала шутить.
Когда я последний раз приезжала к нему в Вашингтон, он жил в дешевой однокомнатной квартире, и спала я на диване. А теперь у него несколько домов?
Я секунду-другую разглядываю его лицо. До меня дошло, что в нем изменилось. Возраст тут ни при чем.Это деньги.
Он никогда не был богат. Даже близко. Ему хватало на выплату алиментов и аренду однокомнатной, но он был из тех папаш, что экономят на всем – вплоть до того, что сами стригутся. И несколько раз пользуются одним пластиковым стаканчиком.
А теперь я гляжу на него и вижу, в чем причина этих едва заметных перемен, – конечно же, в деньгах. Он стал стричься в парикмахерской. Носить брендовую одежду. А в его машине вместо рычагов – кнопки.
Я кошусь на руль и замечаю посередине сверкающую эмблему: дикая кошка в прыжке.
Мой отец ездит на «Ягуаре».
Мое лицо кривится от отвращения, и я быстренько отворачиваюсь к окну, пока отец не заметил.
– Так ты теперь богач?
Он снова прыскает. С души воротит от его смеха – такой снисходительный, хуже не придумаешь.
– Ну, пару лет назад меня повысили в должности, однако прибавка там была не такая, чтобы я смог позволить себе летний дом. Алане после развода досталась кое-какая недвижимость плюс она стоматолог – очень хорошо зарабатывает.
Стоматолог.
Это катастрофа.
Я росла в трейлере с матерью-наркоманкой, а теперь должна провести лето в доме на пляже, под одной крышей с богатенькой мачехой-стоматологом и ее дочкой – наверняка заносчивой избалованной девицей, с которой у нас нет и не может быть ничего общего.
Лучше бы я осталась в Кентукки.
Мне надо на воздух. Хоть минутку побыть одной.
Приподнимаюсь на сиденье и высматриваю вокруг людей – можно ли тут выходить из машины? Я никогда не видела океан и не плавала на пароме. Мой отец большую часть жизни прожил в Спокане, вдали от моря. Кентукки и Вашингтон – единственные штаты, в которых я пока что была.
– Выйти можно?
– Ага, – отвечает отец. – Наверху есть обзорная площадка. У нас еще минут пятнадцать.
– Ты пойдешь?
Он мотает головой и берется за телефон.
– Надо сделать несколько звонков.
Я выхожу из машины и смотрю назад – там толпятся семьи с детьми, кормят хлебом чаек. В передней части парома и на обзорной площадке тоже куча народу, поэтому я просто иду прочь, пока не скрываюсь у отца из виду. На другой стороне парома никого нет, и я пробираюсь туда, петляя между машинами.
Подойдя к ограждению, я хватаюсь за него руками, чуть подаюсь вперед – и вот он, мой первый в жизни океан.
Если у чистоты есть запах, она должна пахнуть так.
Я совершенно уверена, что никогда еще не дышала столь чистым воздухом. Закрываю глаза и пытаюсь надышаться впрок. Кажется, что этот соленый воздух, разбавляя затхлый кентуккский, все еще липнущий к стенкам легких, преображает меня изнутри.
Ветер треплет волосы, поэтому я собираю их руками и стягиваю резинкой, которую весь день таскала на запястье.
Смотрю на запад. Солнце вот-вот зайдет, и небо расцвечено розовыми, оранжевыми и алыми вихрями. Я видела множество закатов, но еще ни разу не видела солнце вот так – когда между нами лишь океан и тоненькая полоска земли. В небе словно парит громадный огненный шар.
Закат пробирает меня до глубины души – со мной это впервые. От такой красоты на глаза наворачиваются слезы.
И как это меня характеризует? По матери ни единой слезинки не пролила, зато расчувствовалась при виде заурядного природного явления.
И все же я ничего не могу с собой поделать – зрелище действительно меня трогает. В небе смешалось столько красок, что кажется, будто земля пишет облаками стихи, воздавая хвалу тем, кто о ней заботится.
Я делаю еще один глубокий вдох, стараясь хорошенько запомнить это чувство, запахи и крики чаек над водой – на случай, если со временем острота ощущений притупится. Меня всегда интересовало, как жители морских побережий воспринимают окружающую их красоту. Ценят ли они ее меньше, чем те, у кого окна выходят на крыльцо убогого хозяйского дома?
Я оглядываюсь по сторонам, гадая, что сейчас испытывают другие пассажиры. Принимают ли они этот вид как данность? Кое-кто любуется закатом, но большинство не вылезают из машин.
Если я проведу все лето под этим небом, рядом с этим морем, неужели я тоже стану принимать его как данность?
С хвоста парома раздается крик: «Дельфины!» Очень хочется увидеть дельфинов, тем не менее перспектива оказаться подальше от толпы манит еще сильней. Пассажиры дружно устремляются на корму, как мотыльки на свет.
А я, недолго думая, перехожу на нос. Теперь здесь никого, да и машины стоят подальше.
Замечаю на палубе полбуханки хлеба «Санбим» – дети только что кормили им чаек. Наверное, кто-то так торопился увидеть дельфинов, что случайно его обронил.
Живот тут же принимается урчать, напоминая мне, что я голодаю почти сутки: если не считать пачки крендельков в самолете, последний раз я ела вчера за обедом, на работе. Ну, как ела – перекусила картошкой фри.
Прислоняюсь к ограждению и, отрывая помаленьку от куска хлеба, начинаю медленно его жевать.
Я всегда ем хлеб именно так. Не спеша.
Это заблуждение – по крайней мере, в моем случае, – что нищие жадно набрасываются на еду. Наоборот, я всегда ее смакую. Кто знает, когда снова представится возможность поесть? В детстве, добравшись до горбушки, я могла растянуть этот последний кусочек на весь день.
Скоро мне придется избавиться от этой привычки, особенно если новая жена моего отца готовит. Они, наверное, и ужинают всей семьей.
Это будет так странно.
Печально, что мне кажется странным иметь постоянный доступ к еде.
Я закидываю в рот еще кусочек хлеба и оборачиваюсь, чтобы получше рассмотреть наш паром. На боку верхней палубы большими белыми буквами выведено: «Роберт Х. Дедмэн[1]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Мертвец, покойник (англ.). (Здесь и далее прим. перев.)