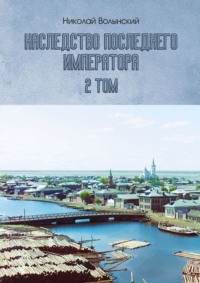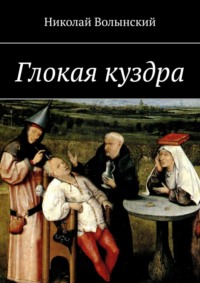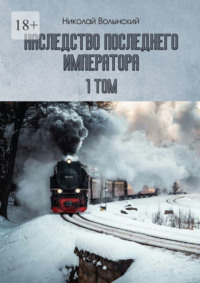Полная версия
Наследство последнего императора. Том 3
Ноги у меня, словно снежные, таять начали и исчезать. Но я сумел удержаться от слабости. Спрашиваю:
– Огородами можно пройти к лесу?
– Можно! – говорит священник. – Только незаметно, под заборами. Спаси вас Господь!
Крадучись под плетнями, я залёг и дождался, пока отряд красных проехал мимо. Они начали обыскивать дома – хорошо, что с того края деревни начали, а не с этого.
Выбрался я, вышел на дорогу и медленно, с трудом воздерживаясь, чтоб не побежать, двинулся к лесу.
Вдруг сзади – лошадиный топот. Оглянулся – трое верховых в военном, без погон, скачут.
– Стой! Стой! – кричат.
И тогда я задал стрекача. Бегу изо всех сил, а топот ближе. Потом выстрелы – пули над ухом свистят.
Я прыгнул с дороги на пашню, потом снова на дорогу, чтобы не дать им прицелиться. Неожиданно дорога кончилась, поперёк неё канава. Перелез через неё – снова стреляют, и снова, по счастью, мимо, а петлять я уже не могу. Нет сил. И дыхание кончилась.
Лес уже рядом, на сосне впереди вижу – белка по веткам прыгает. А топот вроде тише. И совсем стих.
Оглянулся – лошади у красных перед канавой упёрлись. Не хотят перескакивать. Всадники посовещались и повернули шагом обратно. Остановились возле дома священника, спешились, вошли. Скоро оттуда донеслись выстрелы…
Долго я сидел под сосной… Поднялся с трудом и, шатаясь, словно оглушённый, снова тронулся в путь.
Несколько дней я шёл на восток, стараясь держаться Сибирского тракта. Днём прятался в лесу, а с темнотой выходил на дорогу.
Еда кончилась. И когда уже был не в силах терпеть голод, ночью пробрался в деревню и постучал в избу, где ещё был огонь, где, значит, хозяева не спали.
Двор большой, хозяйство, видно, крепкое. В сенях хозяйка отрезает огромный кусок сала, а женщина городского вида отсчитывает ей деньги. Рюкзак у этой женщины доверху набит продовольствием.
Разговорились. Слово за слово, и я сказал, что пробиваюсь к чехам. Поколебавшись, женщина сказала, что она с мужем и братом тоже наладились в Екатеринбург, они уже неделю в пути. Я обрадовался.
– Возьмите меня с собой!
Женщина поколебалась. И согласилась.
Я представился, в двух словах сказал, кто я и откуда. Она назвала только своё имя – Елена.
Хозяин принёс большой круг деревенского сыра. Елена стала расплачиваться. Я решил: раз меня берут в компанию, надо участвовать. Были у меня десять рублей. Но Елена наотрез отказалась взять деньги.
– Ведь последние? – спросила.
– Последние, – признался я.
– Вот пусть у вас пока останутся. А там видно будет.
Мужчины ждали в лесу, за околицей. Конечно, они были очень недовольны моим появлением. Но когда я рассказал о себе, смягчились и согласились взять меня.
Мы пошли очень быстро и уверенно. Муж и брат Елены – Андрей и Владимир (фамилии я не решился спросить) – явно были офицеры, оба в военном, конечно, без погон и знаков различия, у обоих револьверы.
Шли всю ночь, делая короткие остановки. Когда начало светать, на землю упал туман, очень густой, держался по колено. Нам он не мешал, так как мы шли по твёрдой дороге. А когда туман сошёл, увидели перед собой небольшую реку. Через неё узкий мостик из трёх брёвен переброшен. Андрей резко остановился:
– Стоять! Тихо.
Он напряжённо всматривался вперёд. Потянул носом воздух и посмотрел на Владимира. Тот тоже принюхался.
– Махорка, – шёпотом сказал Андрей. – Деревня?
– Костёр на берегу, – ответил Владимир.
– В лес! – скомандовал Андрей.
Мы расположились за густым кустарником. Увидеть нас с дороги было невозможно.
Я спросил Андрея, почему он так встревожился.
– Костёр на нашем берегу, а берег крутой. Кто там может находиться?
– А рыбаки?
– Может быть, и рыбаки. Разведать надо. И вот что: если вдруг окажутся красные и будет погоня, бежать будем все в разные стороны.
– Как же нам потом собраться вместе? – испугался я.
– Как получится. Однако, цель у нас одна, дорога тоже, направление общее. На удачу.
– Лошадь! – вдруг шепнул Владимир.
Я ничего не услышал, но скоро и до моего слуха дошёл стук копыт.
Быстрым шагом в сторону моста шёл чалый иноходец, на нём без седла крестьянин. Когда он приблизился, меня словно кипятком ошпарили. Это был мужик, у которого Елена покупала еду.
Он поравнялся с нами и вдруг придержал лошадь. Остановился и внимательно стал разглядывать кусты.
– Видит нас? – шёпотом спросил Владимир.
– Молчать! – прошипел Андрей. – Не дышать!
Мужик постоял ещё немного, потом тронул бок иноходца каблуком сапога и двинулся дальше. У моста он спустился под крутой берег и исчез из поля зрения.
Вскоре послышались голоса. С берега наверх поднялись трое верховых в солдатском, без погон.
Одного из них, коренастого солдата на кауром жеребце, я узнал тот час: он и ещё двое давеча гнались за мной и расстреляли священника, отказавшего мне в помощи. До сих пор не могу себя простить за то, что навлёк на него беду…
Остановившись на пригорке, они о чем-то тихо говорили с крестьянином.
– Вот ваши рыбаки, – шепнул мне Владимир.
Наконец, всадники и крестьянин попрощались. Они медленно спустились по берегу к мосту, шагом поднялись на противоположный берег и скрылись за пригорком. Мужик вернулся своей дорогой. Теперь он около нас не останавливался.
Мы просидели в своём убежище, наверное, около часа. Наконец, Андрей скомандовал:
– Вперёд!
Но едва мы сделали первые шаги по узкому бревенчатому мосту, как из-за пригорка другого берега блеснули несколько огоньков и раздались выстрелы. Засада! Они нас ждали.
Я увидел, как пуля пробила голову Елены и вышла через затылок, и кровь брызнула. Женщина упала сразу, во весь рост, как топором подрубили. Рядом с ней рухнул Андрей. В грудь Владимира попали две пули. Одна, я понял, была моя, потому что в момент выстрела я спрятался за спину Владимира, и пуля застряла в нём. Вместе со всеми я упал и замер, притворяясь мёртвым.
Из-за пригорка показались красные – пешие, с винтовками наизготовку. Выждали несколько минут и медленно подошли к нам.
Остановились около Андрея. Один вытащил из кармана шведскую спичку, чиркнул о голенище сапога, зажёг и поднёс огонь Андрею прямо в глаз. Веко у него вздрогнуло. И сразу в него всадили три пули.
Большевики передёрнули затворы, подошли к Елене. И ей ткнули горящую спичку в глаз. Она не шелохнулась. То же и Владимиру.
Красный направился ко мне. Подошёл, и, пока он зажигал новую спичку, я выхватил из-за пояса топор и всадил ему в голову между глаз. Тут же перевернулся на мосту и упал в воду.
Река оказалась совсем неглубокая и по-осеннему чистая. Одежда сразу меня потянула на дно. Плыть под водой я не мог. И потому просто пошёл ко дну, отгребая обеими руками. Совсем близко от меня, мелькали пули, пронизывая воду и оставляя за собой белые линии следов.
Должен вам сказать, дорогой Пинчуков, вообще-то, я хороший пловец. Ещё со своего деревенского детства. И мог держаться и плыть под водой довольно долго – три и даже четыре минуты. Но сейчас я слишком быстро истратил дыхание. И когда уже потемнело в глазах, я осторожно всплыл, огляделся, не показывая над водой всего лица. Никого позади не увидел. Тут река делала поворот и скрыла меня от красных.
Выбрался я на берег и долго шёл по лесу, с трудом продираясь сквозь чащобу. Наконец, вышел на поляну, залитую солнцем, остановился, разделся. Развесил всё, вплоть до исподнего, на ветках широкой ёлки, и когда одежда подсохла и стало вечереть, оделся в сухое и снова двинулся в путь.
Куда иду и на что выйду, я сначала себе не представлял. Зато ночью определился по Полярной звезде и двинулся курсом на восток.
Сначала шёл по лесу напролом, потом отыскалась тропинка. Постепенно она становилась шире и твёрже под ногами, пока не превратилась в грунтовую дорогу, которая привела меня снова на Сибирский тракт.
Вскоре я вышел к большому селу. Заходить не стал, решил дождаться утра и осмотреться.
Утро наступило скоро. На большую улицу стали выходить люди. Две крестьянские девушки с берестяными лукошками в руках, двинулись в лес – прямо в мою сторону. Они шли, весело переговариваясь и смеясь, как вдруг испуганно воскликнули, наткнувшись на меня.
– Не бойтесь милые, – сказал я как можно убедительнее. – Скажите мне, кто в вашем селе? Красные есть?
– Какие там красные! Уже три дня как нет.
– А белые?
– Белых тоже нет, но есть чехи.
– Боже милостивый! – заплакал я. – Наконец-то!
– Ты чего, дядя? Что с тобой? – участливо спросили они.
Не успел я ответить, как откуда-то донёсся мощный рёв.
– Что это? – обескуражено спросил я, не веря своему счастью.
– Да ты чего-сь, дядя, чугунку никогда не видел?
Рёв паровоза ещё раз ворвался в деревенскую тишину.
– Паровоз гудит, а стука вагонов не слышно…
– Так станция, чай! Ярцево. Там депо и свои паровозы.
– Далеко?
– В нашем селе и станция. Ещё при царе Николке открыли.
Не попрощавшись с девушками, я скатился с пригорка и побежал на паровозный рёв.
Да, вот она – станция. И платформа. Дом станционного начальства, буфет рядом. Я не верил своим глазам: не сон передо мной, а действительная жизнь. Уже отчаялся к ней вернуться.
Поезда на станции не было, а паровоз оказался манёвровый – «кукушка», без тендера.
Платформа была полна народу – крестьяне, в основном, и солдат много. И все подряд щёлкают семечки подсолнуха – платформа усыпана шелухой, будто серым ковром.
В буфете мне дали на пять рублей тарелку жидкого супа и кусочек хлеба. Я набросился на еду с такой жадностью, что смутился сосед по столику и отдал мне свой хлеб – изрядный кусок ситного.
– Далеко ли собрался, старик? – спросил сосед.
Я сначала не понял и даже оглянулся – кого он спрашивает. А потом дошло – да, конечно. Старик с длинной полуседой бородой и в истерзанной одежде, в лаптях – это я, кто же ещё?
– Да вот в Екатеринбург собираюсь. А что, билет, чай, трудно получить?
– Какой там билет? – засмеялся сосед. – Ты в своей деревне и не слышал, что давно никаких билетов нет. Получить надо разрешение, особое, и отправляйся, куда пожелаешь.
– И как можно его получить? У кого?
– У начальника станции. Да только никакого начальника давно здесь нет.
– И что же теперь?
– Теперь разрешения чехи выдают. Но не всякому.
Пошёл я к начальнику станции.
В самом деле, за столом начальника сидел толстый австрийский военный с нашивкой из красной и белой ленточек на рукаве и с тремя нашивками на погонах. Он пил чай из самовара, и откусывал от огромного ломтя белого хлеба, на котором был слой масла толщиной в два пальца. Я не знал, как обратиться к нему и потому сказал как можно любезнее:
– Доброго здоровья вам, уважаемый господин офицер, и приятного аппетита.
Толстяк глянул на меня круглым глазом и молча продолжал жевать.
– Покорнейше прошу… – опять начал я.
Глаз снова повернулся ко мне.
– Не офицер, мрачно буркнул он. – Четарж10.
– Покорнейше прошу, пан четарж… – снова начал я. – Мне бы проездной документ. До Екатеринбурга.
Теперь он посмотрел на меня обеими глазами и сказал равнодушно:
– Пошёль вон.
– Но позвольте…
– Пошёль вон! – гаркнул четарж. – Пулью в лоб хочь, кольеньо хамски?
Такого в свой адрес я ещё не слышал. Хорошо, что был без топора, иначе ответил бы мерзавцу крепко.
«Как же так, – думал я, шагая по перрону. – Мы ждали чехов, как родных, как братьев-освободителей. Пришёл к нему простой русский человек, крестьянин, не богач, с естественной просьбой. За что же он меня оскорбил? За то, что увидел перед собой простолюдина? Но из таких вся Россия состоит – скромных и беззащитных. А сам – аристократ, что ли? Барин чешский?»
Крестьянский парень, подпиравший вокзальный столб, встретился со мной взглядом и сочувственно:
– И тебя, дядя, выгнали?
Я развёл руками:
– Даже не понимаю, почему. Как же теперь? Ехать-то надо.
– Всем надо. Я тут уже два дня сижу. Вчера чех меня выгнал, сегодня тоже выгнал…
– А поезда ходят?
– Вчера было два.
– А сегодня?
– Все ждут. У одних есть бумажка от чеха. Другие на крышу без бумажки прут. Да туда ещё попробуй влезть. Кошка не поместится.
Походил я ещё немного, собрался с духом и снова зашёл к чеху.
Увидев меня, он выпучил глаза, угрожающе поднялся:
– Ещё что, смерд смердячий?
Вместо ответа я вытащил оставшуюся пятирублёвку и показал ему. Толстым пальцем чех поманил меня ближе, взял деньги, рассмотрел. Потом неожиданно скомкал кредитку и швырнул мне в лицо.
Я закрыл на секунду глаза и замер, чтобы удержаться и не влепить пощёчину мерзавцу. Быстро снял с исхудавшего пальца золотое обручальное кольцо и протянул ему.
Четарж внимательно рассмотрел кольцо – там было клеймо пробирной палаты. Попробовал на зуб и усмехнулся, поводя в стороны тараканьими усами.
И дал мне бумажку, на которой ничего не было, только штемпельная печать: «Разрешается».
– И всё? – спросил я.
– А чьто ещё желаешь? Закордонный паспорт в Америку?
Я повернулся и пошёл. Но у самой двери чех меня остановил.
– Глюпый ты, дурак – настоящий русский мужьик, – сказал он. – Был бы умный, так поехаль без бумажки.
Я и поехал. Вечером пришёл поезд – переполненный, и на крыше тоже не было мест. Но мне удалось втиснуться – помог забраться наверх тот самый деревенский парень. Помог, а сам залезть уже не сумел. Остался. Из-за меня.
– Вот так-то, Пинчуков. Весёлая история?
Огромные кабинетные часы в виде Спасской башни московского Кремля пробили четыре раза.
– Пойдёмте-ка спать, Алексей Андреевич. Ваша постель давно уже ждёт-с.
– И простыни? – улыбнулся Волков.
– Как же без них?
– Белые, глаженые, накрахмаленные?
– Других не держим-с.
– Невероятно… Думал, уже не будет нормальной жизни.
– Будет, – заявил Пинчуков. – Дождёмся!
– А знаете, милый Пинчуков, вся эта одиссея моя лучше всего мне напоминает – только не удивляйтесь! – баню.
– Какую баню? Не понял-с…
– Нашу, русскую баню. С раскалёнными камнями и ледяной прорубью. Вы подумайте: сидишь в парной – жара, натурально геена огненная, волосы трещат, сейчас заживо изжаришься! Прыгаешь в прорубь – слава Богу, пронесло, жив остался, не сгорел. После сидишь в сенях или, вот как у вас, и понимаешь: жизнь-то – какая сладкая она! Ничего нет вокруг важного, ценного. И на тебе – ничего, одна простыня. Крахмальная. И жизнь. Она в тебе. И ничего не нужно больше. Ничего!
– Да, сладкая… Кабы не война да революция… – вздохнул Пинчуков. – Всё же лучшего хочется, а будет ли?
– Это уж как кому… Кому-нибудь да будет.
4. ГЕНЕРАЛ РАДОЛА ГАЙДА И «АНАБАЗИС»11 ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ЛЕГИОНА

Рудольф Гайдль, он же генерал Радола Гайда
УТРОМ, в семь часов, Пинчуков начистил асидолом пуговицы мундира и ушёл, сверкая грудью, в комендатуру выяснять насчёт дальнейшей службы.
А Чемодуров и Волков проспали до полудня. Не торопясь, пообедали, снова часик поспали, потом попили чаю с блинами и мёдом и решили пройтись по городу. Блаженное чувство освобождения и свежей, новенькой радости, как после затяжной и опасной болезни, гнало на улицу.
– Нам ведь куда-то в присутствие надо? – вдруг напомнил Чемодуров.
– Только не сегодня! – решительно заявил Волков. – Сегодня праздник – истинно праздник свободы. Ни службы, ни тюрьмы, ни бегства. Представьте себе, друг мой Терентий Иванович, я только сейчас, вот в настоящую минуту осознал, что такое свобода! – воскликнул Волков, и глаза у него заблестели. – За всю мою жизнь – первый по-настоящему свободный день! А у вас?
– Очень уж я уставши, Алексей Андреевич, – поёжился Чемодуров. – Ничего не хочу. Берите себе эту свободу, сколько унесёте. Мне бы покой, тишину и в Тамбовскую. Никакая свобода мне покоя не даст. Шуму от неё больно много.
– Какой вы, однако, стали философ! – удивился Волков. – Ну, пойдёмте же, не сидеть нам здесь камнем.
День был солнечный, небо синее и прозрачно-чистое. Холодный, от реки, ветер продувал город насквозь, однако не раздражал. Бодрил, действительно, по-праздничному. Волновал, словно обещал, что всё лучшее – впереди и очень скоро, уже в этот день.
Не зря Чемодуров заметил насчёт свободы и шума. Сегодня город шумел – был гораздо оживлённее, чем вчера и даже ещё во дни большевиков. На столбах и везде над воротами домов развевались и трещали на ветру праздничные флаги – трёхцветные дореволюционные, красные революционные (их потребовали вывесить местные эсеры), бело-зелёные сепаратистские сибирские, а также доселе неизвестные красно-белые, похожие на флаг Австро-Венгрии, но только без имперских корон, вместо них сложная эмблема посередине. Быстро сшили.
Носились по улицам туда и обратно моторы с открытым верхом, шоффэры в кожаных черных куртках и в очках-консервах куда-то мрачно-внимательно везли, в основном, офицеров – русских армейских и казачьих, а также австрийских без знаков принадлежности к государству, но с красно-белыми ленточками на фуражках и на правых рукавах. Чехословацкие легионеры – так они теперь себя отличают.
Посередине Вознесенского проспекта маршировал, ровно печатая шаг, отряд юнкеров, на плечах – лёгкие японские винтовки «арисака». По тротуару шёл их командир, прапорщик, и звонко командовал:
– Левой! Левой! Гляди веселей!
Волков полагал, что его отныне трудно чем-либо удивить. И все же странное чувство недоумения и беспокойства возникло у него при взгляде на лица юнкеров. Детские, свежие, округлые, без чётко выступающих лицевых косточек, которые проступят скоро – в очень близкой юности. Но глаза уже не детские, с жёстким прищуром. Каждый юнкер смотрит уже на всех вокруг сквозь прицел винтовки. И готов вполне по-взрослому убивать, на кого укажет командир. И в то же время – дети, мальчишки. Им обручи гонять с палками по улицам или в казаки-разбойники играть, а не живых людей убивать. Пусть даже большевиков с эсерами. Первое же убийство, даже по приказу, значит, законное, изуродует будущую жизнь, но прежде раздавит душу.
Проскакал на рысях казачий полуэскадрон – алые лампасы Сибирского казачьего войска. Всадники, как один, молодцы, глядят орлами. Чубы курчавятся из-под черных лаковых козырьков круглых фуражек. По царскому уставу – нарушение дисциплины, но царя нет. Так что и казачкам можно немного свободы – чубы повыпускать. Зато лошади у них все сытые, начищенные, блестят зеркально на солнце, даже глаза слепят. Жёлто-коричневые драгунские седла не сношены – жёсткие, звонко скрипят. Но и исконно казачьи, на подушках, тоже у многих имеются. Подковы у лошадей тоже новенькие, на высоких шипах – звонко гремят по мостовой и выбивают из булыжника жёлтые и белые искры. Среди всадников не только светлые и круглоглазые русские лица. Половина явно из коренных, из бурятов, – узкоглазые, смуглые, чубы черные и гладкие. Но тоже – орлы, тоже глядят молодцами. Разве против таких устоит даже товарищ Троцкий с его латышами и китайцами?

Белые пришли!
За казаками тоже посередине мостовой браво шагает, хоть не так чётко, как юнкера, полурота бывших австрийских солдат – теперь они чехословаки, воины бравого чехословацкого легиона.
Чехословацкие легионеры обуты в самые лучшие в мире русские офицерские сапоги – высокие, яловые. Прочные, мягкие и лёгкие. На многих шпоры – дзинь-дзинь! Военная форма, вражеская ещё недавно, сегодня радует. Вместо кайзеровских кокард на фуражках уже знакомые красно-белые ленточки. Такие же и на тусклых жёлто-серых медных касках с круглым верхом, вроде парикмахерских лоханок для бритья. И на рукавах тоже двойные ленточки – пришиты внутри треугольников, где указаны род войск и номера полков. Солдатики славные, хоть держатся не по уставу – переговариваются, хохочут, даже курят в строю, харкают и плюют на мостовую. Некоторые открыто, не стесняясь, несут плоские фляжки, и время от времени на ходу к ним прикладываются.
Публика с тротуаров радостно и чуть припадочно приветствует чехословаков. Дамы кричат что-то тонко и приятно и в восторге бросают прямо на головы легионерам цветы. Легионеры хохочут, кричат дамам в ответ что-то солдатское и, похоже, не очень приличное, потому как сами тут же гогочут над своими шутками. Дамы, кто поближе, краснеют и, давясь, хихикают. Наверное, улавливают все-таки смысл славянского языка, хоть и не очень близкого.
Но всё это мелочи. Пусть чехословаки измяты, ненаглажены, пуговицы на гимнастёрках болтаются или вообще оторваны, а сами солдаты небритые, много подвыпивших и даже пьяных. И все же – вроде как свои. Уже почти родные. Почему бы им не выпить ради такого дня? Пусть кто угодно шагает по Екатеринбургу, хоть дети Сатаны, только бы не большевики!
Поэтому и юные барышни, и дамы постарше, даже те, кто с кавалерами, не обижаются, а улыбаются в ответ радостно, и смеются, и тоненько выкрикивают «ура!» Одна гимназисточка забросала легионеров фиалками, вынимая из своего букетика по одному цветку. Легионеры ловко хватали фиалки – ни одна на землю не упала. Кто совал цветок себе за ухо, кто под погон, кто в зубы. А строевая дисциплина – смешной вопрос: такая она нынче у славных легионеров (а название-то какое мощное, героическое, культурное – Древний Рим! Да!).
Штабний шикователь12 даёт команду: легионеры дружно, с воодушевлением запевают.
– Ах, ах! Как трогательно, как волнительно! – щебечут дамы и подносят к глазам носовые платочки. – Какие нежные патриоты! Не то что наши.
Но вот отряд русских солдат, шагающий сразу за легионерами, Волкова не обрадовал. Идут более-менее стройно, но лихости и открытой, смелой решимости, любви к своей армии, гордости за неё что-то в них не видать. А когда Волков рассмотрел, во что одеты и обуты воины только что рождённой Народной Сибирской армии, и вовсе загрустил. Дай Бог, только треть в сапогах. Остальные кто как – в войлочных не по сезону ботах, в лаптях и даже в резиновых галошах, привязанных к ногам верёвками. Среди гимнастёрок, сильно ношеных, с фронта, и выгоревших добела, крестьянские сатиновые рубахи в белый горошек, армяки, кацавейки какие-то бабьи. И каждый второй без винтовки. Безоружные несут на плечах белые, ещё влажные, сосновые палки – точно, как в начале войны с германцем, когда отцы-командиры приказывали солдатам добывать винтовки у врага. Каждого третьего бросали в бой под кинжальный огонь врага безоружным.
Позже царь стал покупать за русское золото оружие у англичан и американцев, чтобы с этим, очень недешёвым оружием русские воевали и погибали за прибыли тех же оружейных продавцов.
– Армия? В самом деле, это идёт армия? – удивлённо спрашивал Чемодуров, склоняя голову, словно ворон на заборе. – Белая? Наша? Или пленные большевики? – и сам себе отвечал, уверенный. – Большевики пленные, кто ещё.
– Пленных никто не вооружает. Даже палками, – резонно заметил Волков. – И на смотр-парады не выводит. Новобранцы, и слепому видно. Но ещё не вечер: союзники оденут и обуют и вооружат белую армию. И мясных консервов подвезут.
– Оденут? – переспросил Чемодуров. – Всех оденут? На всех хватит?
– Гляньте-ка ещё раз, драгоценный Терентий Иванович, на мои замечательные галифе, – неожиданно предложил Волков. – Французские, кстати.
– Исключительно превосходные, – согласился Чемодуров. – Антанта, стало быть, привезла из-за моря.
– Купил я их вчера на барахолке. Помните?
– Купили. И что?
– А то, что штаны, безусловно, краденые. Следовательно, имеется что украсть, и вору не страшно. Значит, таких складов немало. Так что наша армия без портков не останется.
Чемодуров долго размышлял над ответом, даже пощупал на ходу суконную выпирающую вбок складку замечательных кавалерийских брюк с кожаным задом, носящих имя генерала Галифе – самого кровавого усмирителя Парижской коммуны. Но сказать ничего не успел, потому что Волков неожиданно остановился у витрины фотопавильона.
Шустрый фотограф успел выставить на продажу карточки нового начальства. Скользнув взглядом по большим фото командующего сводными войсками полковника Войцеховского и военного коменданта города полковника Сабельникова, Волков остановился на портрете типичного приказчика из галантерейной лавки или, скорее, провинциального парикмахера из тех, кто не скрывает большого и ревнивого уважения к себе самому. Волосы сильно прилизаны, похоже, яичным белком или деревянным маслом, которое для того же используют церковные дьячки. Усишки коротенькие, узкие – новомодные, по-американски. Глаза круглые, стеклянные – вот-вот выскочат.