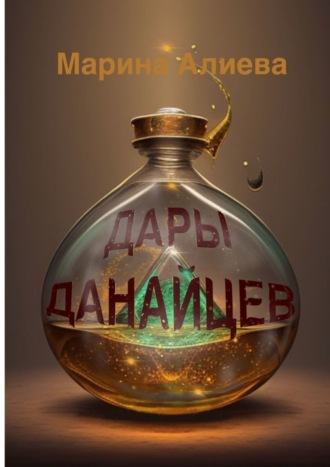
Полная версия
Дары данайцев
Не стану лукавить – в тот миг я мало что понял. Но дядины слова не показались и полным бредом. Что-то в них зацепило за душу, и, дав себе слово непременно все осмыслить и понять, я вслух спросил:
– А почему «Стол Писателя»?
– Да потому что он столько знает, что, владей я словом, сел бы за него и такие бы романы писал! – ответил дядя, взъерошивая себе волосы и мечтательно закатывая глаза.
Идея писать романы понравилась мне сразу. Великолепный способ оживить не только свои ночные видения, но и образы родителей, грустно и бесцельно витающие вокруг меня с длинными шлейфами тоски за спиной. При этом дядина оговорка: «владей я словом…», нисколько не смущала. Разве могут подобные осторожные сомнения придти в тринадцатилетнюю голову? Ничуть не бывало! Я же не собираюсь писать правдивые истории об их действительной, не слишком интересной жизни. Не-е-ет, я сочиню новые истории, перемешаю их с вымыслами из зеркального шкафа, и дам своим родителям возможность стать такими, какими я всегда и хотел их видеть – счастливыми, здоровыми, молодыми и бесшабашно веселыми!
Василий Львович ссужал меня деньгами на личные расходы. Немного, но на новую тетрадь – толстую, в коричневом переплете, из которого торчали кончики нитей, – и на новую ручку вполне хватило. Я нарочно купил все новое – уж если начинать какую-то особенную жизнь, то не со старыми же атрибутами, в самом деле. И рассказывать о своем новом увлечении никому не собирался. Даже дяде. Почему-то мне казалось, что стоит хоть кому-то рассказать, и ничего не получится, уйдет некая тайна, похожая на яркий сон, который невозможно пересказать, не разрушив при этом его очарование и значимость. Поэтому тайком, используя каждый удобный момент, я принялся за свою первую книжку.
Тут надо сказать, что удобных моментов на неделе было не так уж и много. В рабочие дни – школа и уроки, (родители успели мне внушить, что, прежде всего, нужно делать обязательные дела, а потом уж приятные), а в выходные дядя непременно куда-нибудь меня водил. Он опасался, что, пережив недетское горе, я замкнусь в себе от недостатка внимания, поэтому, в ущерб собственных пристрастий, целиком посвящал мне один выходной, стараясь подарить как можно больше положительных эмоций и впечатлений. Но перед воскресеньем была суббота, и я, начав писать книгу, благословлял этот день, как единственный, дающий возможность творить.
В субботу Василий Львович играл в бридж.
Эта нерушимая традиция существовала давно, едва ли не с первого года жизни дяди в N, и была лишь единожды на грани нарушения, когда компанию покинул один из игроков. Кажется, он куда-то уехал, и, по несчастному стечению обстоятельств, именно в это время я и стал жить у дяди. Однако, перерыв в игре продлился недолго. Вскоре в дом пришел новый человек. И этот приход я хорошо запомнил по той настороженности, с которой его приняли, и по той радости, которую все выказали, когда стало ясно, что новый член команды весьма сведущ в тонкостях игры. Этим новым человеком и был Соломон Ильич Довгер.
Он очень напоминал Синюю Бороду. И цветом выбритого подбородка, и горящими черными глазами. Именно так я и представлял матерого убийцу несчастных жен. Но во всем остальном Соломон Ильич оказался очень милым человеком.
Дело в том, что компания игроков состояла из людей увлеченных коллекционированием. Паневин Алексей Николаевич, служащий какой-то конторы, собирал старинные открытки и даггеротипы с видами русских городов, а так же знаки и памятные медали с их гербами и символами. Причем дядя упоминал о каких-то совершенно бесценных экземплярах, которыми Алексей Николаевич страшно гордится, и бережет их, как зеницу ока. Другой собиратель – Гольданцев Олег Александрович – был помешан на старинных книгах, причем, преимущественно, по медицине. Он был врачом. Талантливым, по убеждению Василия Львовича, но, как все талантливые люди, так и не смог пробиться в этой жизни, страдая от собственного ума. Его оригинальные теории слишком далеко расходились с общепризнанными научными постулатами, поэтому Олег Александрович прозябал в районной поликлинике и слыл в медицинских кругах чудаковатым изгоем. Именно он привел в компанию Соломона Ильича, который, хоть и не был сам коллекционером, тем не менее, имел весьма обширные связи в их среде и огромное количество знакомых, готовых эту среду подпитывать. К примеру, дяде он организовал несколько крупных заказов на реставрацию старинной мебели. И, помимо удовольствия, которое Василий Львович испытал и от самой работы, и от её нужности, мы получили финансовую возможность съездить в Ленинград и провести там целых десять дней, не отказывая себе ни в чем.
До сих пор помню, с каким трепетом дядя ввел меня в зал Леонардо да Винчи и, дождавшись, когда перед «Мадонной Литта» никого не будет, подтолкнул меня к картине со словами: «Забудь про все репродукции, про то, что это хрестоматийный Леонардо. Смотри на неё так, словно ты в мастерской художника, с которым только что познакомился». И, вы знаете, был момент, когда, глядя в лицо этой юной матери, я вдруг ощутил невыразимое волнение, как будто кисть только что, на моих глазах, последний раз коснулась голубых одежд, и я увидел нечто новое, совершенное, гениальное…
Да, Довгер для всех тогда явился почти спасителем. Поддержал разваливающуюся традицию, значительно расширил горизонты возможностей компании, совсем уж было в себе замкнувшейся, и мне, косвенным образом, подарил почти целый день, когда я мог беспрепятственно заниматься своим творчеством.
Хорошо помню, как, сидя на диване, в неестественной, вывернутой позе, я торопливо писал, примостив тетрадку на подлокотник. На коленях раскрытая книга, на тот случай, если кто-то задумает войти. Тогда бы я ловко сбросил тетрадь и ручку в пространство между подлокотником и шкафом, а сам сделал бы вид, что читаю. Пару раз так и приходилось делать, поэтому именно на диване, именно согнувшись, как не подобает, я продирался сквозь дебри собственного сюжета.
Мне безумно нравилось это делать, и чем дальше, тем больше. Вскоре, даже когда заветную тетрадку достать было нельзя, я все равно продолжал сочинять. Ползая с пылесосом между резных ножек антикварной мебели, или ковыряя вилкой немудреный ужин, приготовленный дядей, прикидывал, каким путем выбираться героям из сложной ситуации, в которую я их загнал, или продумывал маршрут, которым они пойдут дальше, к вожделенному финалу.
Этот процесс захватывал! Будоражило все – и оживающие образы, и лихие повороты сюжета, заплетающегося тем туже, чем дольше я писал. И, самое главное, таинственность, которая обволакивала всю мою писательскую деятельность.
Потому, однажды вечером, я едва не подавился пельменем, когда дядя, как ни в чем не бывало, спросил: «Ну, и когда же можно будет прочесть то, что ты пишешь?». От неожиданности не нашел ничего лучше, как, набычившись, уставиться в тарелку и обиженно спросить: «Откуда ты узнал?». И тут Василий Львович захохотал, да так, что, кажется, даже чайник на плите подпрыгнул.
– Милый ты мой, у тебя же через все лицо идет во-от такая здоровенная сияющая надпись: «я что-то сочиняю»! Не веришь? Посмотри в зеркало.
Машинально я обернулся к коридорному трюмо, в котором прекрасно отражался со своего места на кухне, а дядя засмеялся снова. Потом он встал, разлил чай по чашкам и, пододвинув одну мне, сказал серьезно и ласково:
– Сашенька, почему ты думаешь, что от моего любящего взора укроется хоть что-то, связанное с тобой? Я же все замечаю. Когда тебя мучила бессонница, я тоже не спал, только делал вид, что сплю, потому что не знал, чем тут поможешь. Жалеть? Нельзя. Жалость унижает, делает слабым, из неё потом не выберешься, так и будешь уповать, что пожалеют. А я хочу, чтобы ты вырос сильным. Писать книги прекрасное занятие. Тут стыдиться нечего. Особенно, если получается. А у тебя, как я вижу, получается – вон, как глаза горят. Что ты пишешь? Стихи?
– Нет, прозу.
– Прозу? Чудно! Это ещё и лучше. Пушкин, кстати, тоже прозу писал, и замечательно писал! Ты только не прячься больше, ладно. Не хочешь пока показывать – не надо. Я без разрешения заглядывать не стану. Даже, если хочешь, машинку тебе печатную достану. Только, пожалуйста, глаза по темным углам больше не порть и не горбись, а то позвоночник испортишь.
С минуту я сидел по-прежнему набычившись. А потом вдруг какая-то волна смахнула меня с табурета. Влетев в комнату, я выхватил из-под подушек дивана, на котором писал, свою тетрадку и помчался обратно на кухню. Там сунул тетрадь дяде в руку, всхлипнул и бросился ему на шею.
– Сашенька, милый, ну что ты, перестань, – растерянно приговаривал дядя, похлопывая меня по спине. – С чего вдруг так-то…
Но по его дрожащему голосу я знал, он прекрасно понимает, с чего. Понимает даже больше того, что я сам сумел бы объяснить, потому что вряд ли в своем том юном возрасте мог осознать, какой сложный узел распутывается для Василия Львовича этим моим увлечением.
В тот же вечер он добросовестно перечитал все, что было мною уже написано. Пока не закончил, спать не ложился. Потом снял очки, прошел в мою комнату, прекрасно понимая, что я тоже ещё не сплю, сел в кресло и удивленно поднял брови.
– А знаешь, Сашок, очень и очень неплохо. Видимо любовь к чтению даром не проходит. Я, конечно, не специалист, но я читатель, то есть тот, для кого книги и пишутся. И, как читатель, вполне авторитетно могу сказать – ты пишешь хорошо. Даже замечаний никаких делать не стану. Заканчивай, как есть, а потом…. В общем, я знаю, кому мы это покажем.
Он встал, но на пороге обернулся.
– Кстати, машинку все же придется достать. Почерк у тебя – ну просто кошмар!
Я засмеялся, а Василий Львович поспешил закрыть за собой дверь. Ничуть не сомневаюсь, что, оставшись один, он вытер с глаз слезы. Во-первых, потому, что мне больше не грозило вырасти угрюмым и замкнутым, а во-вторых – в его доме так весело я смеялся впервые.
Обещание свое Василий Львович выполнил. Очень скоро старинное бюро восемнадцатого века украсилось хромированным чудом по имени «Олимпия». На этом мастодонте я перепечатал уже написанное и благополучно «доскакал» до конца книги.
Дядя в процесс не вмешивался. Только перечитывал то, что я ему давал, кивал головой и говорил: «Пиши дальше». Он не позволил себе исправить ни одной запятой, которые я ставил, где надо и где не надо. А когда книга была закончена, Василий Львович собрал все листки в папку, завязал её и куда-то унес.
Подозреваю, что без связей Довгера и тогда не обошлось. То, что редактор городского детского журнала, прочитав моё творение, попросил написать для рубрики «Новые имена» какой-нибудь рассказ, запросто могло оказаться следствием приятельских отношений между ним и Соломоном Ильичем. Но, как бы там ни было, а я чувствовал себя совершенно счастливым, и все каникулы провел, стуча по клавишам «Олимпии», как какой-то маньяк. В результате появился не один рассказ, а целых три, и теперь мы уже вместе с дядей отправились в редакцию.
Там все прочли, похвалили, отобрали рассказ, посвященный моему дедушке, и уже в октябрьском номере напечатали. Василий Львович был вне себя от гордости. Расплакался, закрывая журнал, со словами: «Жаль Верочка не видит», а потом надолго ушел на кухню.
Я слегка прославился в школе, где стал непременным автором всех передовиц общешкольных стенгазет, участником литературных конкурсов и круглым отличником по сочинениям. Затем увидел свет ещё один мой рассказ. Потом повесть, в которую превратился сильно сокращенный и ставший от этого только лучше, мой первый роман. За этой повестью – повесть другая, и пошло-поехало!
В институт, естественно, поступил без проблем.
Журналистика становилась чрезвычайно модной. В стране назревали интересные события, и я стремился быть в самой их гуще. Писал острые статьи, одну из которых нагло отослал в столичное издательство и её там напечатали! Затем, моя, довольно дерзкая пьеса, (впрочем, в молодости все дерзко), попала в журнал «Театр», и за всей этой круговертью, как-то так само собой сложилось, что жизнь Василия Львовича, вместе с ним и его делами, скромно отошла на второй план.
Я не заметил того, что молчаливая субботняя игра в бридж вдруг стала по говорливости напоминать революционные сходки. Не обратил внимания на ряды пробирок и колб, неумело спрятанные в кухонном шкафу, и на то, что Олег Александрович Гольданцев стал приходить к дяде каждый день. Он появлялся под вечер, кивал мне, задавал обязательные вопросы о здоровье, без особого интереса спрашивал про литературные успехи, а потом закрывался с дядей на кухне, где они часами делали что-то таинственное. В промежутках между стуканьем «Олимпии», обдумывая очередное предложение, я слышал, как позвякивают те самые колбы, чувствовал запах чего-то горелого и был абсолютно уверен, что дядя с Гольданцевым выдумывают состав очередного лака или клея. Вопросов никаких не задавал. Только один раз, когда Василий Львович, в страшном возбуждении, влетел ко мне в комнату и потребовал срочно какую-нибудь ручку или карандаш, я, дождавшись ухода Гольданцева, спросил, чем же они все-таки занимаются. Но дядя тогда лишь таинственно улыбнулся, мечтательно закатил глаза и процитировал:
– Есть многое на свете, друг Гораций…
Потом потряс головой, словно сгоняя прилипшую к лицу улыбку.
– Не время ещё, Сашок. Вот закончим, и ты такое узнаешь, о чем не можешь сейчас даже предположить.
Что ж, не время, так не время. Я охотно предоставил дяде заниматься своими делами, лишь бы ничто не мешало мне с головой погрузиться в свои. Заскакивал домой на минуту что-нибудь куснуть или отхлебнуть. Потом снова уносился, чтобы глубокой ночью приползти, плюхнуться на диван, поспать часа четыре и снова уноситься прочь. А дядя бледной, почти незримой тенью, отпечатывался где-то на задворках сознания – милый, заботливый, любимый, но такой медленный и устаревший в этой летящей весенним потоком жизни.
Так не заметил я и появления испуганной и разочарованной настороженности, которая появилась у дяди и сильно постаревшего Олега Александровича, с которым мы иногда стакивались в дверях. Не слишком задумывался над тем, почему вдруг, с какого-то времени, Гольданцев ходить перестал, зато зачастил давно не появлявшийся Паневин. Потом перестал ходить и он, но мало ли какие причуды возникают у коллекционеров – все они немного не от мира сего. И только однажды Василию Львовичу удалось слегка притормозить меня на полном скаку сообщением о том, что доктор Гольданцев умер.
Легкий укол совести вернул меня в пору моей самой глухой ночи, подсказывая, что надо бы посидеть с дядей, не оставлять его одного в эти печальные минуты. Я же видел, что эта смерть для него настоящий удар. Но дядя, словно услыхав мои мысли, отрицательно замотал головой.
– Иди, иди, чего ты встал? Я это просто так.., к сведению…. Что уж теперь…. Все там будем. А для него так, может, и лучше. Иные тайны, как роковые блудницы – манят, манят, завлекают, и ты уже ничем другим жить не можешь…. Но познавать их нельзя. Опасно. Можно дурную болезнь заработать. Прежде сам в себе разберись – надо, не надо, а потом…. Э-эх, задним-то умом хорошо рассуждать…
Все это дядя бормотал, удаляясь на кухню, и, словно бы, не для меня. Поэтому, потоптавшись немного, я виновато выскользнул за дверь, где уже дожидалась целая компания.
А потом была стажировка в городе Б, в редакции местной газеты. И распределение туда же, по их настоятельному, и моему страстному желанию. Уж больно коллектив оказался хорош.
Дяде я обещал писать и звонить, как можно чаще, но обещания своего, конечно же, не исполнил. Куда там! Жизнь крутилась и мельтешила, словно зеркальный шар на дискотеке, как блестящий шейкер в руках опытного бармена по имени Молодость. И сбивался в этом шейкере сложнейший коктейль из статей, набросков для романа, любовных записочек, беготни за новостями, кутежей, флирта, участия в благотворительных мероприятиях, пьяных философских споров и дурацких поступков, вроде традиционного прыганья с моста.
Но иногда я все-таки «трезвел». Чувствуя себя последним подонком, безбожно и хмуро матерясь, тащился на переговорный пункт и звонил в N.
Дядя всегда очень радовался. На вопросы о здоровье отвечал: «отлично, отлично», на мои извинения говорил: «ничего, ничего». А потом, отслушав на все свои пространные расспросы «нормально» и «все в порядке», грустно прощался.
Я понимал, конечно, что от таких бесед Василию Львовичу становилось только более одиноко. Но, что ещё скажешь по телефону? «Вот приеду в отпуск, – утешал я, то ли себя, то ли его, – встретимся, поговорим…».
Но встретиться не пришлось, хотя в отпуск я уехал раньше, чем предполагал.
Дядя внезапно умер.
Это случилось так неожиданно, так страшно, что шейкер, сбивающий мою жизнь, разом остановился. А в оседающей мути, как в тумане, растворились, и бешенный переезд на попутках, и похороны, и поминки, и…. Все! Тусклым облаком из пролитых и непролитых слез над головой повисло одиночество.
Какие-то люди-тени ходили вокруг, шептали: «коллекция, квартира»… Кто-то мелкий, кривоногий вынырнул из дурмана, схватил меня за руки и зачем-то стал трясти ими. При этом он все время пригибался к моему лицу, обдавал противным запахом изо рта, что-то страстно говорил, но что, я так и не понял. Помню только – «продать в музей». Это он повторял особенно часто. Но, что продать? Зачем?
Дядя!!! Кто эти люди?! Что все они тут делают?!!! И почему никто не уткнется в мое плечо и не зарыдает? И где то плечо, на котором могу порыдать я?! Нет, никого нет! Только шкаф с зеркалами на дверцах. Тогда пусть скорей все уйдут прочь, и наступит темнота! Я знаю, самым четким ликом в том Зазеркалье будет твой лик, дядя. И мы, наконец, сядем, поговорим, скажем друг другу слова, которые клубились вокруг нас все последние годы, но так и не обрели звучания…
Кто-то опять лезет!
Уйди! Сгинь! К че-о-о-рту всех вас!!!
Кажется, я тогда потерял сознание. «Скорая» увезла полубезумное тело в больницу, где его вернули к жизни и разуму успокоительными. Для верности подержали ещё пару дней и выпустили.
Оказалось, свою квартиру Василий Львович давно выкупил у государства и завещал мне, вместе со всей коллекцией. Адвокат, сообщивший это, оставил на мраморном антикварном столике кучу каких-то бумаг и ушел, оглядываясь на меня с подозрением. Видимо, сомневался во вменяемости клиента даже после больницы.
Дурак!
Он, видно, думал, что такое наследство способно загладить любое горе. И кто-нибудь другой, на моем месте, не стоял бы истуканом, тупо глядя под ноги, а скорбно и величаво проводил бы его до двери, расшаркиваясь за приятную новость. Может те, у кого совесть чиста, так и поступают. Но я, услышав грохот закрывшейся двери, как безумный, набросился на оставленные бумаги, ища в них одну-единственную – хоть какое-то письмо от дяди, которое он обязательно должен был оставить. Мне необходимы были его последние слова, как индульгенция забывчивости и безразличию последних лет, которые теперь жгли моё сердце стыдом! Поэтому, отбрасывая в сторону выправленные по всей форме акты, которые делали меня владельцем немалого, наверное, состояния, я готов был взвыть от отчаяния, потому что никакого письма от Василия Львовича среди них не было!
Но поздно вечером, когда сломленный и жалкий я выполз на балкон покурить, светлый дух дяди все же явил свою милость.
На другом балконе, отделенном от нашего всего лишь кухонным окном, стояла соседка – бывшая певица, а теперь пенсионерка Эльвира Борисовна. Она тоже курила – свою неизменную «Беломорину» – и обернулась на мои шаги.
– Сашенька! – охнула Эльвира Борисовна, роняя папиросу, – вы уже дома! Господи, как хорошо! Все так нелепо, так глупо получилось…. А у меня ведь письмо для вас. Базиль оставил незадолго до смерти. Как знал…. Впрочем, мне почему-то кажется, что он знал… Ужасно это все, правда? Смерть, одиночество… Я к вам сейчас зайду, хорошо? Вы мне откройте, пожалуйста.
Путаясь в ногах, я бросился к входной двери.
Эльвира Борисовна просочилась в неё с большим пухлым конвертом в руках и, передавая его мне, сказала.
– Знаете, Василий Львович был очень странный в последнее время. Он ничем не болел, но чувствовалась в нем…. Даже не знаю, усталость какая-то, что ли? Я пыталась к нему заходить, думала, Базиль просто скучает. Даже звонить вам собиралась…. А потом он пришел с этим конвертом. И, знаете, мне тогда показалось, что он чего-то страшно боится. Естественно, первым делом, подумала про коллекцию, потому что сейчас столько всяких жуликов развелось. Но, когда я спросила, не угрожают ли ему какие-нибудь бандиты, Базиль рассмеялся…. Очень, знаете ли, невесело рассмеялся, и сказал, что лучше бы это были бандиты. А потом положил конверт на стол и попросил обязательно передать вам после его смерти. Ох, и рассердилась же я тогда! «Вот уж не думала, – говорю, – что услышу такое от тебя – человека разумного! Как дворовая старуха, ей Богу! Ну, куда тебе умирать? Вот, погоди, приедет Сашенька, может даже жену с собой привезет…. Если так скучаешь, попроси – вдруг ему сюда удастся перевестись. Внуки пойдут, взбодришься…». Но он странно так посмотрел и говорит: «Я не доживу». И сказал так тихо, так уверенно, словно жить ему дальше просто нельзя. А через пару дней иду я по подъезду и вижу – дверь в вашу квартиру приоткрыта. Захожу, а Вася сидит в кресле перед окном и смотрит на небо совершенно безучастно. Говорю ему: «Что ж ты дверь не закрываешь?», а он в ответ даже не моргнул. Ну, я естественно испугалась, «скорую» вызвала. Они приехали, померили давление, пульс, ничего не нашли и уехали. Сказали, что с таким давлением можно в космос запускать, а то, что сидит и ни на что не реагирует, так может у него горе какое…. Вот так-то. А потом, вот…. Умер наш Васенька…
Эльвира Борисовна тоненько взвыла, уткнулась носом в старую вязаную шаль и, отмахнувшись от моего «дать вам воды», побрела к себе. А я, хоть и держал в руках вожделенное письмо, остался стоять в недоумении.
Выходит, дядя знал, что скоро умрет? Погрузился в апатию и стал ко всему безучастным? Впрочем, в апатию он мог погрузиться именно оттого, что знал о скорой смерти. Но от чего?! Почему не вызвал меня, чтобы проститься хотя бы?!
Я ничего не понимал. Все так не похоже на Василия Львовича… Может, все объяснения в письме?
Из торопливо разорванного конверта выпала школьная тетрадка и целая стопка листков. Их я сразу отложил в сторону, так как узнал виденные много раз схемы тайных ящичков и описания особо ценных вещёй с историческими справками о них. В тетрадке же вообще было что-то непонятное – то ли математические формулы, то ли записи каких-то составов. Но между последними страницами лежали два сложенных листка, и я жадно схватил их, разобрав на первом: «Милый Сашенька…».
«Нет слов, чтобы выразить, как я благодарен Судьбе за то, что был в моей жизни. И, хотя счастье это далось слишком дорогой ценой, все же оно было. Счастье видеть, как ты взрослеешь, мужаешь, становишься на ноги…. Нет, не на ноги – на крыло! Ты выбрал удел Творца, а, значит, не жалкое ползанье по жизни, но бурный, стремительный полет. Я горжусь тобой, и лишь одно гложет тоской мою душу – то, что не увижу тебя во всем блеске состоявшегося писателя и Человека. Я скоро умру. Олег Гольданцев прошел этот путь раньше меня, но там, где можно свернуть, стоит запрещающий знак. Жаль, что не могу всего тебе разъяснить, но, может, так и лучше. Помнишь, что я говорил про тайну-блудницу? Так что, послушай доброго совета – не пытайся во всем этом разобраться, не стоит оно того. А самое главное, запомни! Если когда-нибудь к тебе придет сын Олега Гольданцева – Коля, или кто-то другой, кто станет рекомендоваться, опираясь на эту фамилию, гони такого визитера к черту, не соблазняясь никакими сверхъестественными тайнами, которые они посулят! Ничего этого нет, все обман! Есть только ад. Кошмарный ад, в который они тебя утащат…».
Часть первая
Глава первая. Страх
В день своего тридцатипятилетия я стоял в ванной перед зеркалом, покрытым благородными трещинками, и, яростно чертыхаясь, смывал кровь с неосторожно порезанной щеки.
– Перестань бриться этим антиквариатом, – не раз укоряла меня Екатерина. – Процветающий писатель, неужели ты не можешь купить себе нормальный станок?
– Нет, не могу! – огрызался я, будучи не в силах изгнать из памяти свой детский восторг при виде Василия Львовича, подносящего к щеке это сверкающее чудо, похожее на меленькую саблю. – Мужчина должен бриться опасной бритвой. Понимаешь? О-пас-ной! А не этим вашим бабским станком для ног.
Екатерина вздыхала и безнадежно махала рукой, а я продолжал скоблить щеки антиквариатом.
Но в сегодняшнем порезе бритва виновата не была. Издерганный человек, не спавший толком три ночи кряду, порежется даже алюминиевой ложкой! Поэтому я чертыхался и отборным матом поливал себя, Екатерину и сопляка корреспондента из журнала «Мой дом».


