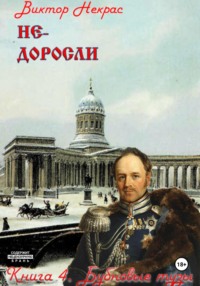Полная версия
Метель
Брился Шепелёв-старший всегда сам, презирая услужливую помощь слуг, и ни брадобреев, ни прочих куафёров никогда не содержал. «Бритьё, – это такая вещь, которую каждый мужчина должен всегда делать сам, – наставительно сказал он однажды сыну. И добавил с усмешкой. – Кроме, конечно, тех мест, куда руками не достать и глазами не увидеть». Грегори тогда, помнится, подавился смехом, а потом задумался – а где это такие места? Так ничего и не придумал.
Отец соскоблил пену с левой щеки, снова полюбовался на себя в зеркало и вдруг спросил, снова стряхивая пену:
– Когда у тебя заканчиваются вакации?
Как будто он сам этого не знал!
– Через неделю, – сказал Гришка, непонимающе пожимая плечами. И сам не поверил на мгновение в то, что сказал. Подумал мгновение и повторил. – Через неделю.
Да.
Ещё неделя, потом ещё пять дней дороги – и здравствуй, сумрачный любимый город над стылой рекой, каменные и бронзовые львы на набережных, серое низкое небо.
Петербург.
Гришка вдруг отчётливо ощутил, как ему хочется туда, в Питер, хоть сейчас бы бегом побежал.
И почти тут же – что не может. И вдруг испугался – а ну как оно и потом вот так же подступит, что будет – разрыдается у всех на глазах, позорище такое? То-то Жорке радости будет глядеть, как старший брат рюмзает.
Грегори старательно сделал безразличный вид и поглядел в отворённое окно.
Солнце нависало над густым чёрно-зелёным ельником, больно било в глаза, бросало длинные тени. На огородах перекликались бабы, тягали тяжёлыми вёдрами воду с озёр и речки на огуречные и капустные грядки. Утробно мыча, тянулись стада, могучим басом ревел в Верхней улице стасовский бык, и трубно отзывались из Нижней коровы.
– Приказчик приходил, – сказал вдруг отец без всякой связи с прежними словами, безотрывно глядя в зеркало и выпятив подбородок. – Говорил, что овсы у Бухменя кабаны потравили. Причём прилично так…
Грегори чуть приподнял бровь, не понимая, к чему отец говорит про какие-то овсы. Вспомнилось поле (совсем рядом с плотниковским покосом, тем, где он едва не схлестнулся с татарами в начале каникул – вроде бы это было так недавно, и вместе с тем – так давно!) – да, верно, там у самого поля – низкий заболоченный ельник. Зверью – самое раздолье.
Матвей Захарович снова покосился на сына и вдруг спросил, едва заметными касаниями бритвы подравнивая кончики пышных полуседых усов:
– Я на них сегодня поохотиться собираюсь, пойдёшь со мной?
– Батюшка! – вспыхнул Грегори, вскакивая с места.
– Вот и договорились, – усмехнулся отец.
Закат подгорал, разливаясь над зубчатой стеной ельника багровой пеленой. Высушенная солнцем и побитая копытами и колёсами трава на дороге пожухла и пожелтела. Грегори встал в дрожках, задумчиво огляделся. С одной стороны дороги – берег озера, на волнах ломались и искрились блики закатного солнца. С другой – золотистые овсы на склоне пологого холма ходят едва заметными волнами на лёгком ветерке.
– Здесь, – деловито сказал Матвей Захарович, легко спрыгивая с подножки дрожек и вприщур оценивающе поглядел на сосну, растущую невдалеке от овсяного поля. – В самый раз. Пошли-ка, поглядим.
Высохшая на корню трава шуршала под сапогами, ветерок шевелил волосы и забирался под полотняную рубаху. Грегори поправил пояс с длинным ножом, сам перед собой смутился на мгновение, настолько это показалось неестественным и наигранным, словно рисовался перед кем. Перед кем тут рисоваться-то? Маруська далеко… да и не надо это ей. Грегори дёрнул щекой.
Остановились под сосной – до дороги было всего ничего, каких-то полсотни сажен, до ельника – сотня. До поля – десяток.
– Вон, гляди, – кивнул отец, и Грегори увидел.
От леса к полю шла даже не тропа – утоптанная дорога. И само поле со стороны ельника – словно по нему кони валялись. Выбито, потоптано, ходы понаделаны.
– Ого, – только и сказал мальчишка. А отец поглядел на поле так и сяк и сказал веско и сурово:
– Ишь, повадились. Да будь это даже мужичьи овсы… А поле – наше, так сам бог велел, – и бросил через плечо сыну. – Неси барахло.
Грегори прикинул, как он будет тащить от дрожек к сосне всё необходимое, передёрнул плечами и коротко свистнул. Пантелей сидел на козлах, нахохлившись словно ворон на суку. От свистка Грегори он встрепенулся, тряхнул вожжами и причмокнул губами – от сосны Грегори этого конечно, не слышал, но Пантелея он знал прекрасно.
Дрожки остановились около сосны.
– Остаётесь, барин?
– Остаёмся, Пантелей, – немногословно ответил Матвей Захарович, прислоняя к стволу сосны сухую длинную корягу. Пошатал её, проверяя выдержит ли.
Выдержит.
Грегори сплюнул в ладонь и потёр её об дерево, пытаясь содрать с ладони присохшую смолу, но только замазал её ещё сильнее – под ладонью молодая сосновая кора оторвалась, и мальчишка вляпался снова, в свеженькое. Мда… дураком надо было быть, чтобы стирать смолу с руки об сосновый ствол. Грегори потёр ладонь снова, на этот раз об лабаз – перекинутую с одной ветки на другую свежесрубленную берёзовую жердь. Лабаз дрогнул, качнулся и сидящий на другом конце жерди отец, дрогнули и подвешенные на ветках ружья. Мальчишка испуганно притих.
– Не возись, – наставительно бросил Матвей Захарович, раздёргивая узел на завязках мешка и пристраивая его на всё тот же лабаз. Кивнул на мешок. – Давай-ка перекусим, чем бог послал, пока не стемнело окончательно. А потом ничего пожевать уже не придётся – кабан зверь чуткий, я даже курить не стану, чтоб не почуял.
– А… – Грегори с усмешкой кивнул на виднеющуюся в глубине мешка солдатскую манерку.
– А это потом, когда всё закончится, – весело ответил отец, подмигивая мальчишке и крупно откусил от ржаной горбушки.
Бог послал копчёное сало, крупно порезанное на тонкие ломти, кусок окорока, половину ржаного каравая и кожаную флягу со сбитнем. Грегори оперся спиной об ствол сосны, презрев опасность запачкать смолой рубаху и неторопливо жевал. Есть почему-то совсем не хотелось, а откуда-то из глубины души медленно поднималось странное чувство. Да ты никак боишься, – понял вдруг мальчишка и даже жевать перестал на мгновение. Подумал несколько мгновений и снова принялся жевать. Нет. Страхом это чувство назвать было нельзя. К тому же чего и бояться-то – кабан, даже раненый, на дерево не влезет и не допрыгнет, от них с отцом до земли – сажени две.
Чувство было другое.
Какое-то весёлое, даже радостное ожидание, смешанное с тревогой. Но и тревожился он не от страха – скорее от того, что может опозориться перед отцом – с ружьём не совладает или промахнётся. Или ещё того хуже – засаду чем-то выдаст.
Бывать на охоте Грегори доводилось и раньше, но на кабана отец взял его впервые – раньше, два года назад, три года назад, и четыре, отец брал его на зверя помельче – зайца, уток, тетеревов.
Матвей Захарович оторвался от баклаги со сбитнем (пахнуло травами и пряностями) и вдруг сказал, словно прочитал мысли сына:
– Вообще, странное дело… кабан сейчас зверь редкий, с четверть века не слышно про них ничего было. А тут с десяток голов жировало, не меньше. Откуда-то приблудились, должно быть.
– Так может, это и не кабаны? – Грегори наконец дожевал кусок, проглотил и потянулся в свою очередь за баклагой. – Может, медведи? Я слыхал, они тоже большие охотники до молодого овса…
– Следы, – отец покачал головой. – Следы-то кабаньи!
Грегори мысленно сплюнул и обругал себя пустобрёхом. Сам же следы видел, нет – поумничать захотелось! Он сделал несколько глотков – от сбитня, хоть и остывшего, тепло приятно разлилось по всему телу.
– Ладно, поглядим, – заключил Шепелёв-старший, не замечая сыновней оплошки. Затянул завязки на горловине мешка, подвесил его на сук и закутался плотнее в просмолённый охотничий редингот толстого сукна. Грегори оставалось только сделать то же самое.
Главное на охоте – это умение ждать.
Терпение.
Проснулся Грегори от того, что холодок забрался под редингот и настойчиво теребил оголившееся тело. Последнее дело спать в такой позиции, – хмыкнул мальчишка про себя, осторожно садясь удобнее. Болела спина, болело и то место, на котором сидят.
Ночная теснота стремительно редела, уже можно было разглядеть и ближнюю опушку леса, и то, как в Бухмене играет рыба – стремительные серебристые тельца нет-нет да и выскакивали из воды и почти без плеска снова уходили на глубину.
Грегори шевельнулся снова и застыл, настигнутый едва слышным шёпотом отца:
– Не шевелись.
Из-под низко надвинутого башлыка на него смотрели внимательные отцовские глаза. Шепелёв-старший чуть заметно моргнул, повёл взглядом в сторону леса. Шевельнул губами:
– Идут.
Грегори медленно, чтобы не колыхнуть веткой, не скрипнуть жердью лабаза, поворотил голову, глянул.
И впрямь – идут.
По лугу, раздвигая густую траву, к полю двигалось несколько тёмных туш – в предрассветном полумраке незаметно было, чёрные эти туши или рыжие – словно корабли плыли. В пеленг идут, не в кильватер, – глупо подумал Грегори и едва не подавился дурацким смехом, сдержался в последний момент.
Стадо шло не торопясь. Чуть похрюкивали на ходу в несколько голосов подсвинки, тонко повизгивали молочные поросята. Полосатые, наверное, – пришла новая глупая мысль.
Не дойдя до поля, передний зверь, здоровенный секач едва ли не два аршина в холке, остановился и тут же, словно по команде, остановилось и всё стадо. «Три… четыре… пять… семь…» – считал про себя Грегори, перебегая взглядом от одной туши к другой.
Семь! Не считая визгучей мелочи.
Секач свирепо рыкнул, и многоголосое сопровождение вмиг утихло, только поросята продолжали повизгивать и негромко хрюкать. Мелюзгу так просто не утихомиришь. Секач, видимо, решил так же и, больше не обращая внимания на них, принялся нюхать воздух – даже на лабазе, в десяти саженях от стада, было слышно, как он свирепо сопит и всхрапывает.
Ветерок тянул от озера и от стада к сосне, и вепрь, несколько мгновений постояв с настороженными ушами, коротко хрюкнул и двинулся к полю. Следом за ним двинулось и остальное зверьё.
Плавно-плавно, чтобы не скрипнуть, не прошуршать, Матвей Захарович снял с обломанного сухого сучка ружьё и протянул его сыну. Грегори подхватил – ружье оказалось вдруг неожиданно тяжёлым. То ли он отвык, то ли привезённая отцом из Уфы винтовка Фергюсона, почти точная копия отцовской, и вправду была тяжелее тульского дробовика, с которым он ходил на зайцев, уток и тетеревов в прежние годы, но Грегори едва удержал её на весу. Сцепил пальцы на отполированном ореховом ложе с мелкой резной насечкой, поднял винтовку на уровень глаз. Отец уже тоже поднял свою винтовку, быстро глянул на Грегори, ткнул большим пальцем себя в грудь и показал поднятый вверх указательный палец, потом показал им на Грегори и поднял вверх два пальца. Шевельнул бровями – понятно, мол?
Понятно, чего ж тут не понять. Отцу – первый зверь, ему, Грегори – второй. А что стрелять будут по отцовой команде, о том договорились заранее.
Глаза щипало от недосыпа, в них словно по горсти песка в каждый сыпанули, винтовка ходила в руках, дуло выписывало кривые и круги, и Грегори вдруг с отчаянием понял, что он сейчас промахнётся, постыдно промажет. В отчаянии он сцепил зубы и наконец, смог – винтовка на миг замерла в воздухе, направленная в горбатую спину зверя, торчащую из травы. И почти тут же отец, словно только этого и ждал, чуть слышно цокнул языком.
Двойной выстрел (Грегори запоздал всего на какую-то долю мгновения) с грохотом разорвал тишину, ударил по ушам, дымно и кисло завоняло горелым порохом. С визгом порскнули в стороны поросята, утробно взрыкивая, бросились врассыпную подсвинки. Секач, отцова мишень, тяжело и глухо хрюкнув, посунулся вперёд, грузно осел в траву и повалился набок, а вот второй, в которого стрелял Грегори, свирепо метнулся в сторону, повалился, перекатился набок, а потом и на спину, снова вскочил.
Подранил, – понял мальчишка, холодея, чуть привскочил, стараясь разглядеть зверя (глупое занятие, если подумать, в предрассветных-то сумерках! да только разве подумать-то время есть?), и в этот миг берёзовая жердь, на которую они опирались ногами, глухо хрустнула, и Грегори с ужасом почувствовал, что опора уходит из-под ног.
Он рухнул с высоты в две сажени, земля тяжело ударила в ноги, и мальчишка повалился в траву, упал на четвереньки.
Больно не было.
Но лучше б было, – подумал Грегори, когда понял, что кабан-подранок несётся прямо к нему, и осознал, что ещё мгновение – и он, позорно вереща, помчится прочь.
Медвежья болезнь, – вспомнил он, и успел ещё удивиться тому, что у него есть время на такие глупости. А в следующий миг с лабаза раздался сопровождаемый щелчком винтовочного курка спокойный голос отца:
– Не вздумай бежать.
Кровь гулко била в виски и шумела в ушах, ноги ослабли в коленях – даже захоти он бежать сейчас, не смог бы. Грегори нетвёрдой рукой ухватился за рукоять ножа – сколь глупой сейчас казалось ему то, как он цеплял его сегодня на пояс и мечтал – вот бы Маруська увидела! Выдернул нож из ножен, и почти тут же увидел окровавленную кабанью морду всего в какой-то сажени от себя.
Всё.
Пропал.
И почти тут же бабахнуло снова – вспышка выстрела разорвала сумерки, отец стрелял почти вертикально сверху вниз, от дула винтовки до туши кабана было всего-то аршина четыре, не больше. Пуля сшибла зверя в прыжке, он рухнул почти под самые ноги Грегори, и мальчишка инстинктивно шарахнулся назад. В следующий миг кабаньи клыки вспороли дёрн на том месте, где он только что стоял.
Кабан – невероятно живучий зверь.
А через мгновение сверху на кабанью тушу обрушился отец, ударил ножом раз и другой, отыскивая под рыжей (Грегори видел во вспышке выстрела – рыжей!) шкурой кабанье сердце. Подождал пару мгновений, но секач больше не двигался, слышно было только, как он тяжело вздыхает, засыпая, да то, как ломит прочь сквозь чапыжник вспугнутое стадо.
А потом Матвей Захарович коротко выдохнул и нервно рассмеялся:
– Гриша, сынок… достань-ка там флягу… ох не те уже мои годы…
4
В город въезжали со стороны Колмазы. Коляска прогремела по шаткому мостику через овраг, на дне которого едва слышно по летней жаре шелестел ручей, и сразу вынырнула на Чумаковскую улицу. Кони бодро вынесли коляску наверх, оставляя следы подков в глинистой, плотно утоптанной копытами и колёсами по летней жаркой поре дороге, потащили её между палисадниками городской окраины. У поворота на Миллионную вслед коляске весело засвистели мальчишки – босые и чумазые. Грегори даже приподнялся невольно, словно ожидал увидеть среди них питерского знакомца, бульвардье Яшку-с-трубкой, но вовремя опомнился и сел на жёсткое сиденье коляски. Наткнулся взглядом на ехидную ухмылку французёнка Жоржика и удивлённые глаза мадам Изольды.
– Чего это ты, Гриша? – тоже с лёгкой ноткой удивления спросил отец. – Никак подраться с ними думал? Брось…
Объяснять Грегори ничего не стал.
Незачем.
На Миллионной подковы звонко зацокали по брусчатке, отец то и дело раскланивался с встречными знакомцами, не спеша дефилирующими по дощатым тротуарам вдоль высоких заборов и каменной кладки – по Миллионной больше всего было различных купеческих контор, а время было как раз обеденное, полуденное – вот и выходили прогуляться конторские служащие.
С Миллионной свернули на Малую Сибирскую и покатили вниз под уклон, к Белой. Коляску потряхивало – Малая Сибирская была вымощена уже не брусчаткой, а булыжником, со всеми его прелестями.
Когда пересекали Никольскую, Матвей Захарович махнул рукой в сторону Троицкой площади:
– В прошлом году осенью государь приезжал… – он помолчал, вспоминая, потом кивнул семейству. – Помните ли?
Жоржик в ответ только молча улыбнулся, но голоса не подал, а вот Анютка и мачеха отозвались мгновенно, почти в один голос и совершенно одинаковыми словами:
– Как же можно такое не помнить, сударь?
– Да… – протянул отец, потом продолжил, обращаясь в основном к Грегори. – Мы тогда тоже в Бирск приезжали… тогда и гравюрку ту сделали, которую потом тебе в письме прислали. Восемнадцатого сентября государь службу стоял в Троицком соборе, а потом, на другой день, в доме Бруданского принимал дворянских выборных…
– И папа́ там тоже был, – весело пискнула Анютка, смешливо морща нос и жмурясь от яркого солнца. – И с государем виделся.
Отец только коротко кивнул.
Анютка радовалась выпавшей на долю отца чести беззлобно и добродушно (мадам Изольда, впрочем, тоже!), а вот Жоржик, скотина французская, немедленно задрал нос и стал смотреть на Грегори так, словно тот только что выбрался со скотного двора.
Грегори не утерпел.
– Я тоже государя видел, – словно бы между прочим ответил он. – Дважды…
Глаза у Жоржика стали круглыми – вот-вот выпадут из орбит и затеряются в пыли под конскими подкованными копытами да грязными колёсами.
– Каак? – ахнула мадам Изольда. – И не рассказывал ни разу!
– Ну-ка, говори-ка, – весело сказал отец, оживившись. – Где и как это ты сподобился?
– Ну первый-то раз издалека, конечно, – нехотя сказал Грегори. Сейчас, после мгновенного торжества, собственная похвальба показалась ему глупой и неуместной, но никуда не денешься – слово сказано, стало быть, надо рассказывать. – Во время наводнения, когда нас мимо дворца на гальюне несло, на балконе стояли военные да чиновные. Должно быть, там и государь был…
Жорка фыркнул, расплываясь в ехидной улыбке – должно быть, ждал, что сейчас старший брат расскажет и про второй случай что-нибудь похожее, и тогда можно будет вволю над ним позубоскалить.
– А второй случай когда был? – добродушно улыбаясь, полюбопытствовал Матвей Захарович.
– На Дворцовой площади, – сказал Грегори, всё больше сожалея, что не удержался и распустил язык.
Впереди кавалькады, на белом жеребце, чуть неловко подобрав правую ногу, высился стройный, затянутый в чёрный мундир всадник – бикорн с высоким страусиным плюмажем не шелохнется на голове, золочёные эполеты чуть присыпаны снегом, на вальтрапе тоже снег словно пудра, равнодушное лицо тоже не дрогнет, и только в глазах чуть тлеет тоска и боль.
Грегори против воли вытянулся, расправляя плечи, руки сами собой одёрнули полы шинели, застегнули пуговицы ворота и поправили фуражку. Праздник праздником, а государь – государем, – мелькнула лихорадочная мысль.
Нет, трепета он не чувствовал. Ни страха, ни благоговения.
Было что-то иное. Какое-то глубинное понимание, что вот этот человек сейчас – это и есть Россия, власть, и вся та сила, которая только что отбивала мимо шаг солдатскими подошвами и конскими копытами, гремела колёсами пушек, может прийти в движение по одному слову этого стройного всадника в чёрном мундире с золотыми эполетами.
Взгляд Александра Павловича на мгновение остановился на фигуре кадета, и Грегори почувствовал, что краснеет. Губы царя вдруг тронула едва заметная улыбка – чуть шевельнулись уголки рта, чуть дрогнули губы, и Александр Павлович вдруг озорно подмигнул мальчишке. А в следующий миг кавалькаду пронесло мимо кадета, она нырнула в дворцовые ворота и скрылась во дворе.
– Ну уж и подмигнул? – с лютейшей завистью протянул Жоржик, впившись взглядом в лицо старшего брата и изо всех сил стараясь найти на нём хоть малейший признак лжи.
Не находил.
Ищи, французёнок, ищи, – злорадно подумал Грегори, внешне, впрочем, стараясь никак не показать своих мыслей.
– Не веришь – не надо, – бросил он равнодушно, отворачиваясь чуть в сторону – глядеть в сияющие Анюткины глаза было куда приятнее.
Под гору спустились удачно, хотя по всей Малой Сибирской кони храпели и упирались, хомуты налезали на уши (уклон у улицы был немаленький), но Пантелей справился – ни у кого из соседей Шепелёвых не было такого хорошего кучера, как у Матвея Захаровича.
На Покровской площади (между домами Набережной и Спасской улиц уже ярко и колюче взблёскивала на солнце Белая) Шепелёв-старший вежливо раскланялся с невысокого роста коренастым штабс-капитаном – тот прохаживался между торговыми рядками, степенно и по-хозяйски оглядывая разложенные по дощатым прилавкам товары: персидские ковры и бухарские шали, проделавшие долгий путь через киргиз-кайсацкие степи под туркменскими и киргизскими пулями и стрелами, через пыль Оренбурга и по неглубоким рекам южной Башкирии; липовые бочонки и жбаны с башкирским мёдом, собранным в Забелье; мешки с солью с Самарской луки; возы сена с заливных лугов Белой, Биря и Таныпа и дровами из ближних и дальних лесов, кожаная обувь и упряжь – привозные с мануфактур и местных шорников и сапожников. Над площадью стоял густой запах мёда, кожи, дёгтя, сухого сена, сбитня и свежевыпеченных пирогов, гомонили торговки и ребятня, ржали кони, мычали волы и коровы.
– Кто это, папа́? – спросил Жоржик, провожая штабс-капитана взглядом. – Важный какой…
Невежа, – поморщился про себя Грегори, но вслух ничего не сказал и лицом опять постарался ничего не выказать. Впрочем, Жорке в доме многое дозволялось.
– Штабс-капитан Каловский, Пётр Сергеевич, городничий, – ответил Матвей Захарович, тоже провожая штабс-капитана взглядом – тот как раз садился в коляску, почти такую же, как и у Шепелёвых, только украшенную побогаче, да покрашенную не так давно – на шепелёвской коляске кое-где и позолота пооблезла.
Прокатились по Конно-Базарной, и скоро коляска остановилась около высоких ворот с резными столбами.
Усадьба Ивана Андреевича Хохлова была не особенно большой – невысокий дом из местного известняка, побелённый поверх кладки, под листовым железом, крашенным охрой, арочные окна с резными наличниками. Позади дома клеть и насыпной верховой погреб размером едва ли не с дом – Андрей Иванович был большим любителем мороженого и каждую зиму нанимал подёнщиков, чтобы забили ему погреб льдом с Белой, а потом всё лето лакомился мороженым, мало того – ещё и ребятню соседскую угощал. Вот и сейчас из-за дома слышались весёлые ребячьи голоса и едва слышный скрип колеса – мальчишки под присмотром старого приказчика крутили мороженницу, набитую льдом, то и дело нетерпеливо заглядывая в её жерло. Грегори с улыбкой вспомнил, как он жил в доме Хохлова, когда учился грамоте, и каждый раз сам не мог дождаться, когда сладкое дорогое лакомство будет готово. Мальчишкам Хохлов разрешал для мороженого приносить своё молоко, сливки и сушёные ягоды, брал с них по полушке с десятка за то, что расходовали запасённый им лёд. Заодно мальчишки готовили мороженое и хозяину.
Сейчас Андрей Иванович сидел, жмурясь на солнце, в небольшой беседке в стороне от выложенной плитняком дорожки от ворот к дому, курил кривую носогрейку и весело слушал гомон ребятни. На скрип ворот он обернулся и тут же вскочил на ноги, немедленно, впрочем, охнув и скривившись от боли в коленях и ступнях.
– Матвей Захарович, дорогой! – возгласил он, распахивая руки для объятия.
Несмотря на торжественность момента, Грегори едва сумел задавить усмешку – отец и Андрей Иванович хоть и прошли бок о бок все войны с Республикой и узурпатором, на одной лавке спали, одно седло под голову подкладывали, одной шинелью укрывались, а величали друг друга по-прежнему по имени-отчеству, с «вичем». Сдержал ухмылку, а в следующий миг подумал – может быть, они это нарочно, из уважения друг к другу?
Отзвучали приветствия, зазвучали здравицы.
Приказчик Хохлова, Прохор, был и камердинером, и лакеем, и поваром – в общем, мастером на все руки. Впрочем, Грегори ещё в те времена, когда жил в доме Хохлова, понял, что малочисленность прислуги отставного штаб-ротмистра объясняется вовсе не невероятной расторопностью Прохора, а скорее, бедностью кошелька хозяина. Хотя и расторопности Прохору было не занимать, он, хоть и прихрамывал на левую ногу, а успевал выполнить любую волю своего барина. Вот и сейчас – никто и глазом моргнуть не успел, а на столе в беседке уже красовался начищенный ломовский самовар четверти на три27, а вокруг него в художественном беспорядке красовались тарелки с заливной бельской рыбой; миски с ухой; погребные прошлогодние яблоки, тоже местные, бирские; печатные тульские пряники, длинные жёлтые плети бухарской вяленой дыни, солёная сиговина и рыжики в сметане – как же без них. В гранёных графинах рубиново светились вишнёвая и рябиновая настойки, и оба старых боевых товарища, и хозяин, и гость, уже в предвкушении потирали руки.
После первой здравицы Андрей Иванович, наконец, обратил взгляд на Грегори:
– Ну что, ученик, как тебе живётся в столице?
– Да хорошо живётся, Андрей Иванович, – без особой охоты ответил Грегори, только что из вежливости не скупился на слова. – Грызу гранит науки, но зубы пока не крошатся…
– Завтра его отправляем на учёбу снова, – сказал отец с лёгкой грустинкой, наблюдая, как Прохор наполняет хрустальные стопки снова, мужчинам – рябиновой, мадам Изольде – вишнёвой. – Отсюда до Москвы на почтовых, а там, как ему уже привычно – дилижансом. Уже и чемоданы его с собой привезли.