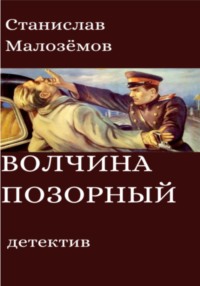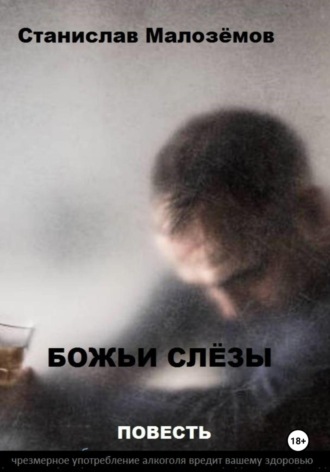
Полная версия
Божьи слёзы

Станислав Малозёмов
Божьи слёзы
Глава первая
***
Сразу после пяти часов утра в маленькой спальне крохотного домика на бугре в конце села Семёновки Витюшу Шанина душил сосед и друг Лёня. Он кряхтел и вдавливал другу в рот большую подушку. Выдернул её из-под Витюшиной головы, и лежала голова на железной кровати с панцирной сеткой, прикрытой тонким матрацем. Затылком Лёнин друг чувствовал каждую ячейку жесткого панциря и ждал, когда из головы вывалится мозг. Сколько мог всасывал Витюша через наволочку и через гусиный подушкин пух тухлый воздух домашний, но, похоже, весь и высосал быстро. Окна-то закрыты. Ноябрь. Спальня как курятник вширь да в длину. Ну, и потолок в избе дед подогнал под свой маломерный рост, когда строил хату. Сорок пять лет сгинуло с того дня. Витюха как раз родился и дед Василий, батяня отца, за неделю с дружками поставил избушку.
Потому как негоже первого внука выращивать в землянке из кизяка с худой крышей, землёй засыпанной, и соломенными вязанками прикрытой поверх. Такую времянку-завалинку дед на скорую руку слепил из самана, когда от Уральска пешком да на плотах бежали они, уральские казаки, от родимой власти, которая постановила уральское казачество отменить. Проще – ликвидировать. Успели сбежать не все, но самые резвые смогли тихо исчезнуть в северной казахстанской глухомани. Никто бы там и не искал их.
Так вот в одной общей для всех жизненных надобностей комнатке этой землянки с двумя корявыми окнами и люльку повесить не имелось пространства. Дом новый для внука дед Василий поставил из сосновых брёвен, уложенных высокими штабелями на хоздворе Семёновки. Но кто-то, наверное, видел как ночью с дружками на трёх бричках дед перетащил штук двести кругляка на бугор. И через пару недель к нему приехали два уполномоченных из района в гражданских костюмах, но при хромовых сапогах.
Дом они разрешили не ломать. Пацан – сосунок, может, и спас жильё. Советская власть детей чтила как будущих борцов за власть Советов. Вождь Иосиф Сарионыч был другом всех детей. А деда увезли. Насовсем. Тридцать пятый год был. Строгое время. Воровать у социализма и морщить лоб на него тогда было очень нехорошо. И стрельнули, видно, деда. Потому как писем не слал дед вообще и областная милиция понятия не имела, в какой тюрьме или на какой зоне тянет он срок. Двести брёвен у государства скоммуниздил Василий! Плевок в социализм смачный. Это вам не табуретку из клуба тиснуть.
Отец молча обиделся на власть, и на много лет стал злой и нервный. Крепче стал выпивать в связи с печалью по батяньке Василию, и, когда Витюше ещё только семь лет пробило, ушел из семьи насовсем. Вышло так, что он крепко подрался с дружками по питью заполночь второго января нового года. Очень ненавидел Иван Васильевич всё и всех окружающих, а потому бился после литра самогона с кем ни попадя. Трое их было или пятеро – никогда не считал. Зачем бился – не думал и объяснить на временно трезвый ум не мог. Говорил только, что за отца мстил, но почему мстил собутыльникам, а не областному прокурору, уже растолковать не получалось у него.
Всегда вроде целым выходил из любой свары, а в ту ночь покромсали – порезали его с головы до ног, он и не дополз до дома.Замёрз в маленьком озерце своей крови. Мама пожила долго еще. Лет восемь. Плакала постоянно по вечерам после смены на свиноферме, а когда Витюша закончил семь классов, купила ему в городе велосипед «Орлёнок». Через месяц ей на день рожденья, на тридцать пять лет, сестра с мужем добыли в городе дорогое выходное платье из светлого парчового баберека с блестящими узорами на крученой ткани. Мать выпила немного водки, надела платье, обняла сестру с Витюшей, а потом вышла вроде бы «по нужде» и повесилась в сарайчике. Под ногами на сене оставила раскрытую тетрадку и там карандашом написала немного.
Мол, Витя уже большой, пятнадцать лет, мужик почти, а её покойный Иван каждую ночь во снах зовёт далеко за край неба, где нет социализма и свиноферм. Только воля и покой. Да Божья любовь. А Витюше отдельно и специально добавила дрожащим почерком, что они с отцом будут ждать его. Чтобы снова была полная семья.
После похорон сестра мамина хотела к себе забрать сироту. Отказался Витя. Сказал, что он на машдворе будет учиться на слесаря и кормится – одеваться сам сумеет на зарплату. Поохала сестра Настасья, но насильно Витю приручить не решилась. И он стал жить один с пятнадцати годов до сегодняшних сорока пяти. Женился как – то по случаю и мимоходом на приезжей, но она быстро обалдела от перегара бесконечного и тупых Витюшиных пьяных разборок. Пять лет назад развелась с ним и смоталась из Семёновки неизвестно куда.
Главное место в деревне, куда любыми способами желал попасть любой мужик и там трудиться всему, чему научат, был в Семёновке «машино – механический изготовительно – ремонтный цех». Огромный, с парой десятков зданий, он занимал больше двух гектаров. Пахать там было так же престижно, как иметь пару медалей «за трудовую доблесть» Научился – то Витюша на слесаря за год всего, в шестнадцать умел всё делать, но не работалось ему с удовольствием, тяжко было на душе. Рыдала душа и просила покоя. И вот как ей не горевать?
Деда любимого расстреляли, отца зарезали, мама руки на себя наложила. А как выпьет Витюша угрюмый сто граммов самогонки, какую бабушка Тарасова продавала за копейки литр, то и горечь сердце не так травит, душа не ноет громко, а скулит тихо, как слепой ещё щенок. И годам к двадцати без «поллитры» в день Витюша уже не жил. А сейчас, в сорок пять своих, работал он редко и недолго. Из слесарей с машдвора его удалили очень давно и закономерно. Портил пьяный Витюша любую работу.
Лёня тоже вылетел на волю с машдвора из бригады механиков по той же беде. И не жалел. Попал туда чудом, чудом и отпахал там аж несколько лет в стабильном нетрезвом состоянии. Тогда стали они с Витюшей подрабатывать на «черных шабашных» работах по временному найму. Но всё одно – убирали обоих отовсюду через неделю и раньше, да не принимали, гады, обратно на машдвор. Но зато в день меньше двух бутылок самогона и парочки «огнетушителей», портвейна в таре 0,7 литра, они теперь не пили никогда. И денег вроде у них не водилось, а пьяные были всегда к вечеру как тамада на свадьбе.
***
Сосед Лёня уже почти задушил товарища своего. Витюша слышал, как он кряхтит, сморкается и кашляет. Хлюпающие звуки кашля отскакивали от стен и летали над подушкой громко, как неистово мечется скворец или синица, когда сдуру влетят в дом, а обратно вырваться не понимают как. Не видят от смертельного испуга открытого окна. А Витюше – всё. Не осталось чем вздохнуть. Он слышал через подушку злорадный Лёнин хохот, мат победный, чувствовал, как вдавливает большая рука соседа последний кусок подушки ему в рот и понимал, что кончается жизнь, питающая отвращение к Жохову Виктору, безмозглому и безвольному дураку.
И вот как раз в тот момент, когда Витюша умер, считай, без последнего глотка воздуха, вдруг исчезла подушка, сосед Лёня пропал беззвучно, в нос шибануло протухшим и прилипшим к стенкам старым дымом сигарет «Памир». Проснулся Витюша.
Было темно, ветер на бугре всегда летал быстрее и громче, чем в низине. Он тяжело бился о брёвна, выл с присвистом в трубе уличной и змеёй шипел в поддувале.
– Живой, – прошептал в темноту Витя, закрыл глаза и увидел маму. Она была в белом балахоне с кисточками на подоле. Покойная мама смеялась и рукой звала его к себе. Витюша вздрогнул, открыл глаза, сел на кровати и поджал ноги. Пол был холодный и липкий от грязи. Не мыл хозяин его сроду. А когда? Некогда ведь.
Потому, что Витюша с соседом, как по приказу отцовскому, ежедневно с утра до вечера годами ходил устраиваться на постоянную работу согласно штатного расписания. Ой, как давно уже отец ему, пацану семилетнему, буквально за неделю до смерти своей от ножа уркаганского, разъяснил серьёзно, как самому себе, что в школе мужик должен отсидеть повинность – семь классов, не более, и начинать мужскую жизнь – работать на работе, где платят согласно штатного расписания. Получать деньги и половину на семью тратить, а половину засовывать в железные банки из-под повидла, накрывать поверху пятислойной фанерой и закапывать банку в огороде. Если не забывать закапывать после аванса и получки, то за пяток лет денег скопится много и можно будет уехать в областной центр, в город Зарайск.
–Там жизнь, в Зарайске, а не здесь, – утверждал отец Иван Васильевич свою личную истину ударами большим кулаком по столу. – Там сотни всяких распрекрасных рабочих мест на фабриках и заводах. Вкалывай порядочно, без придури, и будешь жить как человек, и знать, что мама тебя родила для уважения обществом, друзьями женой и детьми. А потом и внуками. Сам отец Иван и до ареста своего батяни пил по-молодецки лихо на том же машдворе с работягами, да и с другими деревенскими дружбанами до полуночи отдыхал с самогонкой или дешевым портвейном. Слесарем потому отец считался никудышним, ненадёжным и зарабатывал хрен да копейку. Банку из-под повидла закапывать можно было только пустую. То есть смысла закапывать её и страдать по городской жизни у бати не было. Но Витюше он свою мечту пересказал и посоветовал оживить.
– Что отцы не доделали – вы, молодые, забейте по самую шляпку, – держал он сына за голову и яростно колол злым от самогонки взглядом невинные зелёные Витюшины глаза.
– И правда ведь! – как-то ухитрился запомнить наказ семилетний пацанёнок Витя. В пятнадцать годов выплыли из закоулков памяти назидания отцовы.
– Не жить же в этой задыхающейся от неурожаев и безденежья Семёновке до смерти досрочной.– Вслух думал Витюша ещё через пяток лет. – Или от водки, или от любой болезни, которых на деревню Господь ссыпал щедро, причём самых гадких. Чем-то крепко оскорбили его Семёновские деды, бабульки да дядьки с тётками. Может тем, что за много десятков лет тут даже часовню не поставили, не то, чтоб церковь. Хотя у каждого казака, изгнанного с Урала при поголовном расказачивании, в хате сегодня красный угол был как иконостас в Зарайском храме. А церковь почему-то не было настроя срубить. Вот что разозлило боженьку. Вот почему он опустил Семёновку на дно мироздания. Чуть, может, повыше ада.
Ну, вот и ходил Витюша весь год каждый день тридцать с хвостиком лет с ровесником – другом и соседом Лёней по разным рабочим конторам. И не брал их никто. Они эти конторы десять раз по сто обошли за многие годы.
– Бухать бросайте и приходите, – одинаково дружески советовали регулярно меняющиеся начальники, большие и маленькие.– Мы от своих алкашей нервную сыпь имеем на шкуре. А вас взять – так вообще прыщами обрастём.
– Так мы как раз и нацелились – завязать, – Убеждал их Лёня и бил себя, а заодно и Витюшу в грудь. – Нам надо, чтобы за рабочий день с потом трудовым и похмелье вымывалось. А нет похмелья – на фига тогда и пить?! Керосиним-то утром только с бодуна треклятого. Только по причине умирания организма.
– А похмелюга стихает через часик – и мы бежим работу искать, – Витюше смешно было в таких разговорах.– Так нам в конторе или в цехах начальники говорят, что только полные козлы с вот такими рогами ищут работу в поддатом виде. После стопаря самогона, говорят они, у просителя и глаза шибко весёлые, и речь наглая да свойская. С руководителями как с кентами в тошниловке болтают и по плечам хлопают. Умора и замкнутый круг, блин.
Сошел Витюша с кровати и босиком, прилипая к полузастывшим плевкам и разлитому красному вину, достиг кривого окна, за которым ничего необычного и невиданного не было. Рассвет привычный осенним ранним бризом раздвигал темноту и ложился слабым пока мягким дрожащим светом на деревья. На дорогу с лужами и крыши жестяные. Сел Витюша на ободранный подоконник и стал слушать шум в голове. Трещало так, будто медведь большой, тяжелый, ломился на скорости через валежник, убегая от охотников.
– Надо сглотнуть чего-нито, – сказал Витюша мысль, просившуюся на волю, хоть в вонючий, но в воздух. Из тесного пространства каменной Витюшиной головы. – Надо Лёню будить.
Он долго искал возле порога свои резиновые сапоги. То ли чёрт их унёс, то ли забыл вчера где-то. Да вроде не разувался нигде. Сапоги нашлись сами возле печки. Хотел, видно, Витюша поставить их перед противнем сушиться, но не успел. Разулся и заснул сперва на полу под печкой, а после полуночи как-то переполз на кровать. А может кто-то перенёс его. Хотя, кажется, не было никого в хате. Да. Никого. Вспомнил, что один он еле отодвинул засов на воротах и долго искал под крыльцом ключ. Искал и просил:
– Мужики, подсветите спичками. Не вижу ни хрена.
Но никто спичек не жег. Ключ сам нащупался минут через десять. Значит один Витюша пришел. Обулся он в сапоги и, поскольку спал в телогрейке, то сразу и вышел во двор.
– Лё-ё-оня!! – слабо прокричал Витюша и попинал сапогом соседский забор.
– Ну, чё орёшь в такую рань!? Народ спит. Уборка кончилась. Отдыхают. А ты мешаешь народу сны до конца досмотреть, – Лёня, друг, шел из «скворечника»-нужника, застёгивая на ходу ремень и пуговицы на ширинке.– Перелезай ко мне. На бревне посидим. На нём думается ладно.
Сели думать.
Лёню недавно за пьянку удалили с самой последней работёнки, со свинофермы. Он там корма развозил по графику. Точнее – должен был развозить. Но не выходило как положено. Он раньше работал на машдворе механиком и выпивал как все. То есть сильно. Уволили его, ясное дело. Вот тогда он для заполнения пустого пространства в жизни стал более мощно закладывать за воротник. Получилось так, что усилил употребление всего, что с градусами, почти сразу после собственной свадьбы. Через полгода. До женитьбы Валентина была тихой, в рот Лёне глядела и хвалила без удержу, а полгода пожили – как наизнанку её выкрутили. Командовать начала, заставляла работу поменять на хорошую. Чистую и денежную. Детей не хотела рожать и жестко определила – кого Лёня мог в дом пускать, а кого вообще из приятелей в шею гнать.
Держался Лёня, но под каблуком только три года смог протянуть. А потом плюнул, показал жене характер и пошел обратно на машдвор. Поклялся директору, что он в завязке окончательной и взяли его с условием. Мол, если соврал, то опять вылетишь в секунду. А там знакомых было ещё много. И пить он стал сразу буйно, веселее, чем на свиноферме и постоянно. Обиделся на Валентину. Пару лет продержался там помощником кузнеца. Работу делал и директор терпел. Потом он набил кузнецу морду за пустяковое замечание и директор, как обещал, в секунду послал Лёню подальше и он тоже стал «шабашить» с Витюшей на случайных подсобных работах, «керосинил» отчаянно, а потом знакомый как- то пристроил его на постоянный заработок, на свиноферму. Там он так же «бухал» с местными, часто ночевал рядом со свиньями или, если доползал до дома – шел в сарай с сеном для лошади, но в хату к жене даже в бессознательном положении мозга не мог зайти. Ну, Валя с утра как-то собрала бельишко да посуду в два чемодана, заглянула в сарайчик, плюнула Лёне в рожу, кривую от перехлёба «первача», и ушла от никудышнего мужа насовсем.
Лёня уговорил главного агронома, с которым раньше любил играть в шахматы, и тот, старый друг директора, смог вернуть его на машдвор.Парни-механики, спецы машдвора, с Лёней радостно по – новой задружились и стали они ежедневно совместно самогончик у Зеленцовых недорого покупать. Витюшу он в друзья определил давно и было ему с соседом приятно, легко было. Друг свободно существовал как «перекати поле» в степи. Развёлся ещё пять лет назад.
Потому, что Витюша пил давно и много. Денег со временем не стало вообще, и жена ушла к маме. Мама рядом, через улицу жила. А не пить он не мог ни морально, ни физически. У него-то не жизнь имелась, а горе сплошное. Деда расстреляли, отца убили, мать повесилась, на работе «запарывал» дрожащими руками любые детали, жена к тому же бросила. Это непростительно обидный факт. В радости с мужем жить приятно, а в горести мужниной плавать совместно не желается. На машдворе судьбу Витюшину сиротскую уважали, но директор его всё же тихо удалил из коллектива. Косячил он по нетрезвости, задания проваливал стабильно. А Витюша кроме слесарного дела не знал ничего, да в деревне и слесарить можно было только в трёх местах. На машдворе, на автобазе и на элеваторе. Но туда соглашались брать непьющих или не больных гадским алкоголизмом. Среди Витюши и Лёни таких пока не было.
– Похмелиться надо, – произнёс волшебные слова Лёня, друг.
– Надо похмелиться и уехать отсюда. Уехать надо, Лёня. В Зарайск сперва. Там знакомых, считай, почти нет. Перестанем пить. Заработаем на подсобных делах денежку и через неделю-две рванём в Челябу или в Свердловск. Там вообще ни нас не знают, ни мы. Никого. Начнем трезвые искать работу и найдём. – Витюша потянулся и цокнул языком.– Тогда жизнь вернётся и погладит нас. Приголубит и полюбит. А здесь подохнем мы. Надо уехать.
– Надо обязательно.– Лёня воодушевился. – Нам по сорок пять всего- то. Жизнь только началась мужицкая. Люди мы нормальные. Везде приживемся. Уедем завтра! Давай?
– Давай! – Аж подпрыгнул на бревне Витюша. – Сегодня опохмелимся, чтобы завтра ехать в Зарайск похожими на культурных людей. Да?
– Пошли искать, – поднялся друг Лёня. – Оно и надо-то граммов по сто пятьдесят. Найдём.
– Потом на автостанции билеты забронируем. А я знаю у кого на билеты денег слупить.– Витюша улыбнулся. – У бывшей жены своей. Чтоб я остепенился – она последние отдаст. А я расскажу ей наши планы добрые и правильные. Даст денег.
И они пошли в «тошниловку» «Колосок» с благородной целью – вернуть себе вид человеческий, легкий и элегантный как у артистов кино. Лечебное заведение для похмельных открывалось раньше, чем натуральная сельская поликлиника для больных сердцем, мочекаменной болячкой или мучающихся гриппозным кашлем. Забегаловка начинала приём полусогнутых и туго дышащих дружков Змия зелёного в семь утра, а гриппозник или страдалец от несварения желудка мог приступить к изничтожению недуга только после восьми. Со стороны гляделась эта разница как признание государством страдальцев с бодуна более ценными и нужными стране, чем граждан,рвущихся победить диарею, простатит или геморрой, чтобы выздороветь и побеждать в священном социалистическом соревновании.
В «тошниловке» с утра было чисто и фартук у Галины Петровны, которая приставлена была посуду пустую собирать, протирать столы и короткой метлой сносить в угол огрызки беляшей, ливерной колбасы, луковиц и сушеных рыбьих голов с торчащими из них частями скелетов местной плотвы, был фартук ещё белоснежным и красиво топорщился после стирки с крахмалом. Она сорок пять лет умничала учительницей арифметики в младших классах, а на пенсии не гробила жизнь лузганьем с соседками семечек на лавочке возле ворот дома, а пошла в бурную действительность, о которой в школьных буднях не знала и не думала. Вообще её не представляла. А сейчас вокруг неё с семи до одиннадцати вечера мат – перемат весёлый и многоэтажный, пивная пена на всей одежде бывшей учительницы, где-то уже засохшая коростой серой, а местами ещё мокрая, оттягивающая кофту к юбке, а юбку к полу.
И хоть за столиками высокими хлебали пиво, запивая его после восьми магазинной «бормотухой», бывшие её ученики, уже не знакомы они были лицами. Их крепко попортило время совместно с тем же пивом да «Солнцедаром». Но по фамилиям профессионально запомненные на всю жизнь, были они своими, почти родными и чувствовала себя бывшая учительница на бесконечной их пьянке как на большой перемене, когда ребятишки баловались и хвастливо хулиганили. Но её-то помнили все и на вид, и по характеру властному. Школа в деревне всегда была одна -единственная и потому автоматически хранил в памяти всех учителей каждый житель Семёновки от двадцати до пятидесяти лет. Дольше тут редко кто жил. Ну, только женщины. Девяносто девять процентов из них – не употребляют ничего с градусами.
Вот только она одна двумя словами прекращала назревающие драки и за воротник легко выводила на улицу перебравшего огромного дядю, который швырял пивную кружку в другой конец забегаловки,откуда словесно измывался над ним бывший одноклассник. Не каждый из тридцати клиентов «тошниловки» мог бы позволить себе так унизить самого страшного на вид и натурально могучего телом Володьку Сурнина. У него, когда он «принял на грудь» с перебором, даже сколько времени не стоило спрашивать. Мог он в лучшем случае по дружески разбить нос или в худшем – по спёртому воздуху метнуть любопытного товарища по школьному прошлому прямо к входной двери. А до неё метров пять лететь, не меньше.
Вот этого Сурнина Галина Петровна нежно брала за шкирку и, вдалбливая ему на ходу, чтобы сегодня им тут больше не пахло, открывала большим его туловищем дверь и выталкивала на усыпанную втоптанными в грунт окурками площадку перед пивной «Колосок». И ведь странно было всем, непонятно всем было, но почти не соображающий после выпитого громила Сурнин, которого смущался ругать даже его начальник, строгий прораб строймонтажного СМУ, после тёти Галиной нежной экзекуции назад ни разу не вернулся.
Только с утра приходил опохмеляться. Как все. Он извинялся перед Галиной Петровной за вчерашнее свинство и шел к своим. А своими в «тошниловке» были все. Чужие здесь не ходят. Тихие пьяницы, например стесняются к шустрым и склонным к рукоприкладству мужичкам заглядывать. Вмажут тихушники с корешем бутылку портвейна на двоих где-нибудь в уголке магазина из горла – и по рабочим местам. Ведут там себя скромно, честно и добросовестно вкалывают, и за день больше не употребляют. Потому они и при работе, при деньгах и семьях. Настоящие деревенские действующие профессиональные алкаши их не уважают и даже не здороваются. Настоящие – все друзья. Все имеют одну общую цель: никогда долго не мучиться с бодуна и помогать немощным с похмелья братьям всегда иметь счастье быть выпивши.
Витюша с Лёней пошли к столику в конце зала, по пути пожимая всем руки, склонили над столами головы и молчали.
– Чё, пустые? – минут через пять дёрнул за рукав Лёню бывший председатель сельпо Валерий Ильич, который два года назад «толкнул» каким- то ухарям из города пятнадцать ящиков тушенки почти бесплатно и сто килограммов сливочного масла за деньги, на которые купил ящик коньяка и «гудел» одиноко у себя в кабинете почти неделю.
Потом сторожа испугались, что Валерий помрет без закуси и взломали дверь. Начальник лежал на полу в собственной блевотине, кабинет провонялся отходами жизнедеятельности организма, а сам руководитель почти не дышал. Его унесли в больничку на целую неделю, после которой через пару дней председателя вызвали в город, в «облпотребсоюз», и там быстренько освободили от занимаемой должности. Валерий Ильич очень огорчился и умело окунулся в бездонное море пива, водки и самогона, как тренированный ныряльщик счастливо опускается в пучину морскую.
– Вот рубль только есть у меня. Держите, – он порылся в «пистончике» брюк и бросил на стол Витюши и Лёни сложенный вчетверо замусоленный рубль.
– Рупь и двадцать две копейки добавить? – спросил сосед слева, Коля – сварщик в недавнем прошлом.
Витюша зажал в ладони «ржавый» с мелочью и побежал в магазин за «вермутом». Налили Валерию и Коле двести из пузыря 0,7 литра, сами приголубили остальное и посвежели лицами да нутром почти моментально.
Стало как обычно тепло в теле и легко на душе. Пиво с вонючим «вермутом» в одном бокале – это, конечно, не «ёрш» классический, который зашвыривает ум за разум почти сразу, но тоже напиток не детский. Рождает в оставшихся лохмотьях светлого сознания мысли смелые, идеи яркие и зовет к поступкам смелым, значительным.
– А пошли к бабе моей, – обнял друга Лёню Витюша и шепнул на ухо. – К прошлой. Возьмем у неё тугриков на автобус до Зарайска. Я ей всё красочно растолкую, дуре. Она даст на доброе дело. И пойдём на автовокзал. Билетики вот в этот кармашек с «молнией» схороним, чтоб не выронить, а утречком по холодку первым рейсом и рванём к новой жизни.
– Можно бы и к моей, – Лёня, друг, ехидно хмыкнул.– Но у неё в башке ещё свежо предание. Год прошел всего. А твоя уже не только гульбу нашу забыла, но и тебя вряд ли каждый день мысленным взором наблюдает. А, может, уже и запамятовала бывшего мужа хорошего к собачьим чертям. Но на доброе дело башлями помочь обязана. Как честный человек. Выпивать перестанем, так, глядишь, снова разглядят бабёнки в нас прежних героев. Нежных да работящих. Обратно вернутся.
К Витюшиной бывшей побежали они на работу. Лидия заведующей отделом удобрений и витаминизации почвы сидела в сельхозуправе. Светлый кабинет у неё, цветочки на окнах, портрет Леонида Ильича над головой, а на полированном столе перед кучей бумаг – чернильный прибор, такой же чёрный и блестящий как телефон.
– Давай, Виктор, мы по – нормальному поступим, – Очень внимательно, с оптимизмом во взоре прослушала Лидия трепетный доклад полузабытого мужчины, слегка похожего на того, с которым давно уже жить начинала в любви и надежде. – Вы через три дня приходите трезвыми. Я даю деньги и звоню Сергею Михайловичу, заму главного всего областного управления. Он вас встретит и работу подыщет, и общежитие на первое время. Пойдёт так?