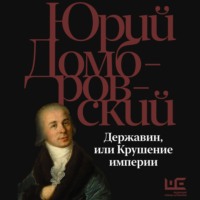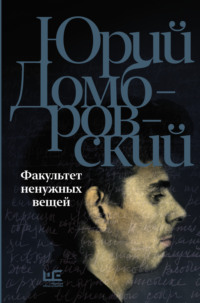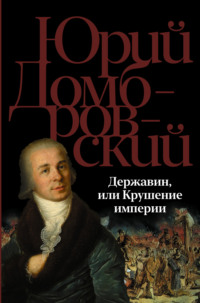Полная версия
Обезьяна приходит за своим черепом
Я не ответил, и наступила неудобная пауза.
– Так что вам угодно, господа? – повторил я, проходя за стол и садясь на место шефа.
Смотря прямо мне в глаза, адвокат ответил мягко, ласково и нагло:
– Ну, прежде всего дружески предупредить вас, господин Мезонье: вы допустили серьезную ошибку, и ее последствия уже необратимы.
– А именно? – спросил я так же мягко и нагло. – Я что-нибудь наврал, перепутал, например, факты, оклеветал кого-то? Может быть, ваш почтенный доверитель в действительности никогда не работал в гестапо, так же, как и вы, уважаемый коллега, никогда не издавали нацистской газеты и я просто спутал вас с вашим однофамильцем?
– Кстати, – вдруг спохватился редактор фашистского листка, – вот вы цитировали статью, якобы написанную мной. Надеюсь, я могу ознакомиться с ней полностью?
– Вполне, – сказал я радушно. – После конца разговора я вам вручу фотокопию. Это все, что вас интересует?
– О, нет, далеко не все, – улыбнулся редактор. – Насколько я знаю, цитированная вами статья никогда и нигде не публиковалась?
Тут я засмеялся и сказал:
– Совершенно верно, никогда и нигде! Но когда я сегодня же вручу вам фотокопию, вы увидите, что машинописный текст содержит множество мелких помарок, сделанных вашей рукой. Учтите, что этот документ находится в моих руках уже очень давно – лет тринадцать по крайней мере. Он был вручен лично шефом, когда шеф еще работал в институте, моей матери и хранился все время в ее бумагах. Цитированные строчки, как вы, безусловно, вспомните, – несколько строк вашего письма в редакцию, написанного от имени группы сотрудников института, отрекшихся от моего отца и осудивших всю его деятельность.
Наступила пауза. Редактор все еще улыбался, но с каждой секундой улыбка его становилась все задумчивее, тусклее, а потом он и совсем посерьезнел. Я, безусловно, вышиб из его рук очень сильный аргумент.
– Так я вам буду очень благодарен за фотокопию, – сказал он наконец с легким поклоном. – Но, возвращаясь к вашей статье, я должен сказать, что вы совершенно неправомерно представили дело так, как будто вами цитируется текст какого-то опубликованного фельетона.
– А, чепуха! Разрешите-ка лучше мне, – досадливо отмахнулся от редактора адвокат. – Опубликовано, не опубликовано – дело, в конце концов, не в этом! Такая статья есть – это главное, а вам не надо было оставлять компрометирующие документы! Но, господин Мезонье, ваша статья содержала прямой и очень деятельный призыв к убийству моего клиента, и это уже совершенно недопустимо.
Я сидел и молча смотрел на его полное, чуть обрюзгшее лицо, чем-то напоминающее мне лицо Оскара Уайльда, на спокойные глаза, изобличающие пронырливого, но не очень умного человека. А он продолжал:
– Как вот, например, понять такие строчки: “И вот тут возникает вопрос отнюдь не меньшей важности. Государство по каким-то своим, очень особым соображениям отказывается карать убийцу. Но что случится, если меч, выпавший из рук одряхлевшей Фемиды, подхватит брат, отец, сын жертвы или даже сама жертва, если она, по непостижимому счастью, окажется живой? Одним словом, что должна делать юстиция, если жертва казнит своего палача? И не приведет ли это, в конце концов, к возрождению библейского талиона, к тому знаменитому «око за око, зуб за зуб», при котором роль государства доведена до нуля? А что делать с мстителем? Повесить его за убийство? Но это значит только довершить то, что не сумели доделать наши общие враги. Посадить в тюрьму? Но уже сажали! И самое опасное. Если и посадить и судить, то можно ли быть уверенным, что человек, убивший собственного палача, все-таки не будет оправдан присяжными? А когда это произойдет, не будет ли это как раз тем прецедентом, который снова восстановит права ножа, револьвера и убийства из-за угла? Как забыть далее, что государство, осуществляющее великий принцип «Мне отмщение, и аз воздам», так же не вправе оказать произвольную и преступную милость убийце, как и покарать за убийство невинного?”? Достаточно ясно, правда? И вот этих-то строк, – адвокат постучал согнутым пальцем по газете, – одного этого места вполне достаточно, чтоб возбудить против вас судебное преследование за подстрекательство к убийству. Вы юрист и должны знать, что это такое.
Он замолчал, ожидая моего ответа. Но я тоже молчал. Мне было совершенно ясно, что все, что говорит этот сукин сын, очень разумно. Правда, возбудить дело против меня сейчас все-таки довольно трудно. Такие процессы и осуждения по ним возможны только после совершившегося покушения. Но разве не абсолютно ясно, что это же отлично сознают и мои противники? Так, значит, они уже приняли все меры к тому, чтобы угроза по крайней мере хотя бы выглядела реальной. Конечно, покушение будет совершено в надлежащие сроки и с надлежащими результатами. Негодяй получит несколько шишек на лбу или синяк, преступник будет задержан на самом месте преступления, да и всего вероятнее, он даже бежать-то не будет, и при первых же допросах выяснится, что на преступление его подтолкнула статья известного журналиста (называется моя фамилия), и вот уже загудело, завертело меня громоздкое, бестолковое колесо юстиции. Все это было для меня вполне понятно, и я даже знал по опыту, как это делается.
– Итак, господа, – сказал я, – мне все понятно, кроме одного: чего же вы все-таки от меня хотите?
Смотря мне в глаза, адвокат ответил:
– А наши условия будут достаточно жестки, господин Мезонье. Мы будем просить прекратить вашу разрушительную деятельность, то есть, – поправился он, – разрушительную, конечно, только в той части, которая непосредственно направлена на разжигание междоусобной войны. Вы правы, но вы чрезмерно далеко зашли. Перед вами два потерпевших. Один из них пришел со мной и имеет честь с вами разговаривать. Другой, представителем которого являюсь я, мог прийти вчера, но сегодня он уже не придет.
Он говорил благожелательно, тихо, но все время смотря мне в глаза. От его тяжелого взгляда и ласковости мне стало так неприятно, что я грубо спросил:
– Но неужели Гарднер стал за эти дни таким трусом?
– Трусом? – спросил адвокат с хорошо разыгранным удивлением. – Нет конечно. Но он вообще перестал быть человеком. Он убит вчера ночью за городом.
Надо сознаться, удар был подготовлен и нанесен мастерски. Я чуть не вскрикнул от неожиданности. Мне мгновенно представилось все то, что неминуемо должно свалиться на меня, на шефа, на всю газету вообще. Говорить дальше было уже бессмысленно. Я скомкал конец разговора и почти выбежал из кабинета. Через час репортер криминального отдела принес первые подробности. Труп Гарднера был обнаружен в небольшом лесу, вернее – загородном парке, в одной из старых, заброшенных аллей. Он лежал на поляне лицом вниз, а все лицо, от уха до уха, пересекал рубец, очень тонкий, запекшийся по краям черной, как потемневшая смола, кровью. Одежда убитого, особенно пиджак, была смята, разорвана, затоптана, и вообще впечатление было такое, как будто Гарднер попал под машину и его минут пять тащило по дороге. Однако ясными оказались только два обстоятельства. Первое: смерть последовала от массивного размозжения мягкого мозгового вещества каким-то тупым орудием, возможно обухом топора, и наступила около десяти часов тому назад. И второе: труп был перенесен с другого места, тащил его один человек, сначала на руках, а потом волоком по земле. Причин убийства вечерние газеты не приводили, хотя и называли преступление таинственным, знаменательным и даже многозначительным.
Наутро мне позвонил шеф и сердито спросил:
– Ганс, я вас ни о чем не спрашиваю, но надеюсь, вы не такой болван, чтоб сунуться за информацией в полицию самому?
Я сказал, что как раз и собираюсь идти сейчас туда.
– Ну, тогда я вас очень попрошу, – сказал шеф тревожно, – ни в коем случае никуда не соваться. Достаточно и того, что уже есть.
– А что же такое есть? – спросил я.
Он сердито хмыкнул.
– А это как раз то, что нам еще придется сегодня уяснить полностью на собственной шкуре. Во всяком случае развернутых объяснений теперь не избежать. Подстрекательство к убийству через печать – знаете, что это такое по нынешним временам?
– Да, но кто же подстрекал-то? – спросил я.
– Да мы же, мы же с вами! – заорал он в трубку. – Вы да я, старый дуралей. И отвечать нам придется обоим, и, к сожалению, кажется, даже поровну.
И он бросил трубку.
А вот что я узнал в полицей-президиуме.
Убийство, несомненно, носило явно выраженный политический характер. Все деньги и ценности – часы и браслет – оказались целыми. В день убийства, еще до обнаружения трупа, президенту полицей-президиума прислали вырезку из газеты с моей статьей. На полях ее крупными красными буквами было выведено: “Преступление и наказание”. Как обнаружил осмотр штемпелей, опущено это письмо было в районе нахождения комитета коммунистической партии. Далее шла (я цитирую полицейское коммюнике для печати), так сказать, принципиальная часть. Учитывая все это, само собой напрашивался вопрос: как же расценивать действия автора статьи? Ясно: даже не поднимая вопрос о достоверности фактов, изложенных в статье, то есть о клевете, приходится прийти к выводу, что весь ход рассуждений господина Мезонье носит нетерпимый характер и она вполне способна вызвать эксцессы вроде происшедшего. Ясно и то, что автор если и не прямо подстрекал, то обязан был предвидеть реальные последствия своей статьи, тем более что он и сам является достаточно опытным юристом. Таким образом, публикация статьи может быть квалифицирована как вполне обдуманное преступное действие, направленное против жизни и здоровья лиц, неугодных автору, а это полностью соответствует такой-то и такой-то статьям кодекса.
Это заявление было сделано сначала устно в кабинете президента нескольким журналистам, а потом распространено в виде официального документа, который кончался так: “Таким образом, налицо преступление, начатое три дня тому назад в редакции газеты и затем полностью законченное в окрестностях города. Разумеется, предполагать согласованные действия двух лиц – журналиста и физического убийцы – невозможно. Не равна и доля их ответственности. Однако основание для привлечения господина Мезонье к уголовной ответственности, безусловно, имеется. Тем не менее ничего более ясного сказать пока нельзя, так как этот вопрос касается компетенции прокуратуры, а не полиции. Дело изучается органами государственного обвинения, и соображения тут могут быть самые различные”.
Что это значило, я узнал полностью через два дня, когда мне позвонил по телефону Юрий Крыжевич.
Он сказал, что зайдет ко мне сейчас же, пусть только у меня никого не будет, и по его тону я понял, что истории с убийством он придает чрезвычайное значение. Так оно и было на самом деле.
– Ну, – сказал он, проходя в комнату и на ходу расстегивая пуговицы на плаще, – на этот раз, кажется, вы дописались уж по-настоящему. Что говорит ваш шеф?
Я усмехнулся. Шеф мой мне ровно ничего не говорил, только вздыхал да качал головой, даже звонить и то перестал.
– Наверное, все звонит и справляется о здоровье? – спросил Крыжевич. – Как, и не звонит даже? Ну а вы-то ему пробовали звонить? Тоже нет? А почему?.. Ну и правильно! Сейчас самое правильное – вам обоим молчать и ждать, чем все это кончится.
– А вы думаете чем? – спросил я.
Он ничего не ответил, только пожал плечами.
Пережил я за эти два дня очень много.
Гроза надвигалась на меня со страшной постепенностью. Как будто даже ничто не изменилось вокруг меня. Я по-прежнему ходил в редакцию, аккуратно отвечал на письма читателей, принимал посетителей, подписывал к набору материал своего отдела. По-прежнему ко мне то с воплями, то с руганью, то с обольстительными улыбочками входили (или врывались) обычные мои посетители – бандиты, якобы невинно оклеветанные прессой, мужья, оскорбленные в лучших своих чувствах, девушки с разбитыми сердцами, чрезмерно удачливые адвокаты по криминальным делам. Никто никогда не говорил со мной о моей статье, хотя, конечно, знали про нее все. Но ведь и то надо понять: у человека, пришедшего в судебный отдел, у самого земля горит под ногами, так ему ли до чужих бед и смертей?! Почти прекратились и звонки. Зато по редакционным кабинетам поползли какие-то смутные слухи. Я долго не мог уловить их суть, но однажды ко мне в кабинет зашел редактор международного отдела – человек еще молодой, но уже видавший виды. За десять лет он успел с корреспондентским билетом пройти три войны – две малых и одну глобальную – и поэтому имел обширный круг знакомств среди военных. Зашел он уже после конца работы, прикрыл дверь и, подходя к самому столу (я правил гранки), сказал:
– Вы знаете, с убийством этого Гарднера происходит действительно какая-то чертовщина.
– Да? – спросил я.
– Да, да! Оказывается, негодяя-то намечали на крупный военный пост в комитете по координации чего-то, и были уже сделаны все нужные запросы, получены ответы – и вот тут как раз и ударила по нему ваша статья. Понимаете, как сразу все обострилось и как все забегали?
Он говорил, явно чего-то недосказывая и на что-то намекая, только я не улавливал, на что именно.
– Вот как? – сказал я, смотря на него.
Он улыбнулся мне, но глаза отвел.
– Конечно, если бы назначение уже состоялось и было объявлено, кое-кому сильно нагорело бы. Вы называете с сотню свидетелей – значит, сообщаемые вами факты абсолютно не составляют секрета, они настолько лежат на поверхности земли, что никто из заинтересованных лиц, прочитав вашу статью после назначения негодяя, не мог бы сказать: “А я этого не знал, Мезонье открыл мне глаза” или их любимое: “Вот мерзавец! Иметь такие факты и так молчать! Значит, он ждал удобного момента для устройства всемирного скандала! Вот вам честь прессы! Вот вам ее подрывная роль!” Нет, все отлично всё знали.
Я смотрел на моего собеседника, а он хитро улыбался, показывая, что он несравненно больше скрывает, чем говорит, – очевидно, мне следовало бы его попросить, раз уж он начал говорить, выложить мне на стол все, но я был так утомлен, так мне было все противно и на все наплевать, что я только спросил:
– Итак, смерть Гарднера сыграла на руку его покровителям?
– О! – воскликнул он радостно. – Вот наконец вы и поняли кое-что! Да, дорогой Ганс, есть, видимо, такие счастливцы, которым помогает все на свете – деньги, люди и даже несчастные случаи. Кое-кому повезло опять. Вот как называется то, что случилось в загородной роще неделю тому назад.
На этом разговор наш и окончился. А утром я получил повестку с золотым гербом на бристольском картоне – вызов канцелярии королевского прокурора на час дня. После обычной формулы приглашения стояло: “По делу об убийстве бывшего военнослужащего немецких оккупационных войск в Европе полковника Иоганна Гарднера”. Я не выдержал характера, пришел раньше назначенного часа и в наказание за это наткнулся в приемной на редактора фашистского листка. Он сидел ко мне спиной за столом, что-то быстро строча в блокноте, и когда я обратился к нему с вопросом о начале приема, он поднял на меня глаза и заулыбался.
– Сейчас, сейчас вас примут, господин Мезонье, – сказал он добродушно, – и вас, и меня. Секретарь только что увидел вас из окна и пошел с докладом к начальнику. О, вас все тут знают!
И всегда я попадаю в такие истории! Но отступать было уже поздно – я ведь сам к нему подошел, – и поэтому я спросил:
– А вы по какому делу?
Он безнадежно махнул рукой.
– Да все по тому же. Только какое я имею отношение к Гарднеру? – он слегка развел ладони. – Ваша легкая рука! Это ведь вы меня вместе с ним – и не скажу, чтобы удачно, – взяли заодно в общие квадратные скобки. Я-то так и понял: это прием публициста, и не больше. А тут, видимо, смотрят иначе – конечно, прокуратура!
Но тут открылась тяжелая дверь, обитая черной кожей, и секретарь пригласил меня к его превосходительству.
Как только я появился на пороге, прокурор почтительно поднялся из-за стола и пошел мне навстречу с протянутой рукой. Мы были давно знакомы. Оба носили на лацкане пиджака весы и сову – эмблему высшей школы юридических наук (он окончил ее раньше меня на десять лет), оба чуть ли не дважды в неделю просиживали по нескольку часов за одной шахматной доской в клубе, и поэтому то, что ему, моему доброму знакомому, сейчас приходится говорить со мной в кабинете королевского прокурора и как прокурору, смущало и озадачивало его. С минуту мы вообще говорили черт знает о чем – и о шахматах, и о здоровье, и чуть ли не о погоде. Потом он сразу посерьезнел.
– А сейчас, дорогой друг, – сказал он, усаживая меня возле небольшого секретарского столика и опускаясь в кресло сам, – возвратимся к нашим несчастным баранам. Дело есть дело, и строг закон, но закон! Нам приходится с вами беседовать по очень неприятному делу, хотя, говоря по-честному, виноваты не вы и не я, а те идиоты, которые не вздернули негодяя еще десять лет тому назад. Но факт есть факт, Гарднера не повесили в сорок пятом году, а убили на третий день после появления вашей статьи, и это в корне изменило все дело. Именно поэтому мне приходится беседовать с вами в качестве королевского прокурора, и ничего тут не попишешь. Вы, зная меня, угадываете, кому отданы мои симпатии, и поэтому понимаете и то, насколько сложно мое положение. Курите, пожалуйста, эта дощечка только для моего секретаря.
– Мое еще сложнее, – усмехнулся я, выбирая из его портсигара папиросу. – Мне приходится доказывать вам, высшему блюстителю закона страны, аксиому, известную любому школьнику: “после этого” еще не значит “ввиду этого”. Гарднер действительно погиб после моей статьи, но это и все, что вы сможете доказать. Причинной связи вы здесь не установите.
– Ну что ж, я знал, что вы мне ответите именно так, – улыбнулся прокурор и, взяв себе папиросу, закрыл портсигар. – Действительно: как доказать, что Гарднер убит по вашему подстрекательству? Конечно, если ставить вопрос так, то вы для меня как для прокурора полностью недосягаемы. Тут даже анонимные письма, ежедневно приходящие в адрес полицей-президиума или королевской прокуратуры, не помогут. Хотя надо вам сказать, что я получил и такое, где стояло просто черным по белому: “Убил Гарднера я, бывший борец фронта Сопротивления, узнав из статьи Мезонье о том, что выделывал этот мерзавец. В то время, когда мы, патриоты, сидели в подполье, этот изверг…” Ну и так далее на десяти страницах. Но ясно, что такое письмо может написать всякий ваш недруг специально для того, чтобы посадить вас на скамью подсудимых. Нет, вся беда, друг мой, в том, что от вашей статьи пахнет убийством. Она криминальна сама по себе. Именно только с этой стороны королевская прокуратура и смотрит на ваше дело. Только с этой. И больше ни с какой. Вы знаете, как наш закон определяет подстрекательство? – И он продекламировал: – “Призывы через печать или листовки, размноженные типографским, стеклографическим или всяким иным способом, к совершению террористических актов против лиц, не занимающихся в момент преступления государственной, политической или общественной деятельностью”. Санкция статьи до года одиночного заключения… Год одиночки! Вот и все, что вам грозит.
Он говорил очень ласково и тихо, смотря мне в глаза. Но я-то отлично видел, насколько серьезно все, что он на меня двинул, и насколько мало я могу сейчас рассчитывать на какую-то справедливость. На минуту мне даже сделалось страшно. Ведь что я ни говори, о чем я ни кричи, а стену, воздвигнутую им против меня, уже не пробьешь ни кулаком, ни ломом. И тем не менее, подчиняясь голому инстинкту отбиваться, когда на меня наскакивают из-за угла, я сказал:
– Но если, как вы говорите, убитый – мерзавец, заслуживающий веревки, а факты, изложенные в статье, правдивы, то тогда в чем моя вина?
Он пожал плечами и успокаивающе улыбнулся.
– Повторяю: в подстрекательстве через печать и ни на одну букву больше. Вы говорите, все факты вашей статьи правдивы. Но, дорогой коллега, во-первых, закон не входит в обсуждение оценки личности жертвы, а во-вторых, излагать факты можно по-разному – в криминальном случае так, чтоб в конце их обязательно следовал вывод: “Бей!” – или еще лучше: “Убей”. Если мы констатируем такое намерение автора статьи и такое изложение фактов, мы должны ставить вопрос о подстрекательстве, даже не затрагивая вопроса, кто является объектом нападения и насколько он его заслуживает. В вашем деле именно такой случай. – Он помолчал и вдруг спросил: – Вам ясно, коллега, насколько ограничительно мы смотрим на вашу ответственность?
Я развел руками.
– Но я-то не говорил ни “бей”, ни “убивай”.
Прокурор хмыкнул и хитро погрозил мне пальцем.
– Коллега, коллега, мы же с вами оба юристы и оба все понимаем! Важен не грамматический, а правовой аспект фразы. Да, буквально вы нигде не написали “убей”. Ну и что из этого? Призыв есть призыв. В этом-то все и дело! И, говоря строго между нами, убийство все-таки налицо, и если мы закрываем глаза на труп нациста, то это не значит, что мы его не видим.
Я молчал.
– Одним словом, сейчас я отдал вашу статью на изучение и консультацию. Как только будет установлено в ней наличие момента подстрекательства, то есть призыва к убийству лица, находящегося под государственной защитой, мы возбудим против вас формальное криминальное преследование и отдадим под суд. Ну а какой будет приговор, это уж дело совести присяжных. Это, так сказать, одна сторона дела. Но есть и другая. Есть, к сожалению, и другая. – Он взял со стола какую-то папку и положил ее перед собой. – А может быть, впрочем, и к счастью. Это смотря по тому, к какому соглашению мы сейчас придем. Речь идет о втором “разоблаченном” вами, журналисте, статью которого вы так заостренно, с восклицательными знаками и скобками в середине, но, извините, не всегда вполне лояльно и уместно цитировали.
– А он, кстати, вместе со мной ждал приема, – напомнил я. – Но почему же неуместно и нелояльно?
– Да прежде всего потому, что вы, извините, передернули карты! – спокойно воскликнул прокурор. – Вы пишете: “статья”, а цитируется-то письмо, пусть коллективное, но все равно только письмо – документ совершенно частный и нигде не напечатанный.
– А что это было за письмо, вы знаете? – спросил я.
– О, не беспокойтесь, ваша фотокопия у меня, – значительно улыбнулся прокурор и постучал пальцами по папке. – Вот она! Документ, конечно, на редкость подлый, но опять-таки я же говорю не о моральной оценке его, а о том формальном и, простите, совершенно неоспоримом нарушении права, которое вы имели неосторожность допустить. Называя письмо статьей и предавая гласности то, что имеет частный характер, вы совершаете преступление. Право опять-таки отнюдь не на вашей стороне. Поэтому, когда потерпевший обратился ко мне с жалобой…
Тут меня наконец взорвало окончательно, и я спросил грубо и прямо:
– Прямо-таки к вам? К самому королевскому прокурору? Этот фашист? С жалобой на оскорбление в печати? Да за кого, ваше превосходительство, вы, наконец, меня принимаете?
Я думал, он также закричит на меня, но он улыбался все добрее и добрее.
– Да ведь в этом-то и весь вопрос, дорогой господин Мезонье, – сказал он очень добродушно и даже фамильярно. – В том-то и вопрос, за кого мне вас принимать. Вот говорят: “Принимай его за коммуниста”. Я отвечаю им: “На это у меня нет никаких оснований, да и впечатление он оставляет совсем иное”. Другие говорят: “Считай его за честного журналиста”. “А что такое «честный журналист»? – спрашиваю я их. – По отношению к кому он честен? Кому он служит? Его статьи, составленные вместе, представляют определенную систему нападений, направленную прямо против основных ценностей нашего мира. В том числе против, – он стал загибать пальцы, – содружества с нашим великим другом – раз, против права нашей маленькой нации быть великодушной и незлопамятной – два, против основ нашей послевоенной политики – три, против основ нашей конституции – четыре, против жизни честных граждан, привлеченных к делу охраны безопасности Европы, – пять!” Хватит? Вот видите, что получается, – и он показал мне сжатый кулак.
– Эти речи, ваше превосходительство, я уже однажды слышал из одного рупора, – сказал я, – только не знал фамилии диктора.
Я думал, что он хоть тут рассердится, но он только встал, подошел и обнял меня за плечи.
– Дорогой господин Мезонье, а я ведь не диктор, – сказал он шаловливо, – вернее, я диктор, но никак не автор текста. Беда в том, что вы, мой дорогой, честный, но, увы, неосторожный друг, не учли нескольких важнейших моментов сегодняшней мировой обстановки и реальной расстановки сил. Отсюда и все ваши болести. Впрочем, давайте попытаемся что-нибудь сделать для их врачевания.
Он подошел к столу, поднял телефонную трубку и приказал секретарю вызвать из комнаты ожидания редактора.
Фашист вошел и сел на второй стул, сбоку стола королевского прокурора, так что теперь я сидел перед ними обоими, как на скамье подсудимых.