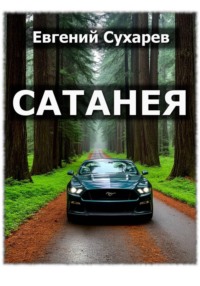Полная версия
Мои каникулы

Евгений Сухарев
Мои каникулы
Встреча
Я вычеркнул из жизни бессловесность. Будто провёл линию над пустой строкой…
Я крадусь по улицам, которым боялся доверять. Больше не молчу, не лгу, не прячусь от домов, чьи крыши для меня – насупленные брови, наблюдающие сверху.
Всё было труднее, чем любовь и ненависть: я плохой романтик, преследующий женщину…
Её звали Ираида. Я ей обязан тем, что вымученно понял единственную мысль: крупнейшая монета, которую мы платим объектам нашей страсти – это ожидание. Ты можешь разменять монету ожидания на каменную верность, медные страдания, серебряные струны серенад и посвящений. Но выше ожидания – звёзды, да и только. На звёздах одиноко, на звёздах тебе страсти уже не пригодятся. Я знаю и уверен.
Самое смешное – она со мной знакома. Возможно, что теснее, чем даже я – с собой. Она меня придумала себе давным-давно, будучи совсем ещё девчонкой. Я жил с ней постоянно – как образ, идеал. Идеальный парень в её мыслях. Она училась в школе и придумала себе меня, ровесника. Потом она росла, а я не изменился.
И мы не виделись пятнадцать лет.
Пока я не решился сам попробовать войти в её реальность.
Окраина посёлка. Тихая дорога, прямая и протяжная. Пара сотен метров, а там – я никогда не полагал, что это будет меня радовать – чёрная спина. Спина любимой Иры.
Мороз трещал в поджилках, снег валил как будто из пушки с конфетти. Я неординарен для такой погоды – на теле лишь рубаха. Я не виноват, зима не покрывала мест, откуда я пожаловал. Мне нравилось, что я приближаюсь к Ираиде. Сколько лет прошло… Я столько изнывал от наших расстояний, и вот теперь сегодня делаю успехи по их преодолению. Мало кардинально изменилось за все годы. Кроме того факта, что Ираиде – тридцать.
А мне всё ещё пятнадцать, и я пятнадцать лет плавился в пылу не догорающего сердца. Отправившийся в спячку, точно потерявшая хорошего хозяина улитка-ахатина. Во что мне обходились те пятнадцать лет – в мои несостоявшиеся глупые заботы. От и до – ради неё.
Я настигал её, в плескающемся море пронзительных минут на объяснение. Язык спешил отстукать готовое признание с отзвуком компостера, проведшего контроль над билетом в детство. Имя Ираиды, озаглавившее осень золотыми буквами, нежно задержало меня в поздней подростковости. Однако я как можно более почтительно сгибался, на голову ниже – чтобы оказаться с Ираидой вровень. Где-то не по росту нахватавшийся надежд горбун из Нотр-Дама…
Непреклонность – вот и всё, что получилось разглядеть в придачу к красоте. Как достать утопленницу, милую, родную, и в хитросплетениях полуночного света рассмотреть покой, восковую мертвенность на её щеках. Осознать – отныне ни единым мускулом муза твоих песен тебе не принадлежит.
Я скороговоркой отгонял сомнения. Будто бы шугающий трещоткой воробьёв китайский земледелец – дохнущий от голоду по заветам Мао.
– Ираида, Ира… Видишь, я с тобой, я не покидал тебя, не осуждал, годы в никуда, ничего не жалко… Поразмыслил, что мне сто́ит попробовать вернуться… Я ведь ничего не сделал, как ты не хотела. Ты же это знаешь… – пауза в ответ…
Я привёл на помощь мальчиковый аргумент:
– Я за тобой одной лишь…
– И что дальше?
По природе в Ире – ноль ньютонов жёсткости. Только прямота – такая же, точь-в-точь, неотразимая, как Ира. Они неотразимы – обе – как копьё, метящее в грудь.
– Я давно проникся, сдался тебе…
– Что от меня нужно?
– Не разбивать мне сердце…
– Какое сердце, Женя??
Я непроизвольно источал неубедительность, будто продающий Библии с иконами свидетель Иеговы на кавказском рынке.
Что я к ней пристал? Я ненастоящий, и гораздо чётче, нежели она, представляю бездну своей ненастоящести.
Все мои слова – концентрат энергии, вложенной художником в скопище мазков; и теперь картина хнычет, возражает, бесится – закрашиваемой сверху новым автором. В нашем с Ирой случае автором была подлинность; материя. Зрелость. Мне бы отрешённо чертить инициалы Ираиды на песке… Повопить в пустыне… Выйти в мир иной, разными путями, в тот же самый день, что и она…
Я имел отличное от предопределённого мнение о роли в рассудке Ираиды. Я сказал три слова, устало и бездушно:
– Я тебя люблю.
Менее приятное из всех овладеваний – это, на мой взгляд, овладевание искусством псиной преданности. Бродишь на цепи необоснованных привязанностей… В тот момент размотанная чёртовая цепь натянулась до предела. И не отпускала… Может быть, ещё несколько щепоток болевых мгновений, в качестве приправы к блюду справедливости – и, восторжествовав, я обниму Иру; и замкну собой круг её симпатий. Я привёз бриллианты и алмазы в небе. Рейсом до неё я летел практически под пекущим солнцем – и в итоге вместо бриллиантов и алмазов со мною добрались продолговатые скелетики тающего льда…
– Ира!!
– Женя, наша разница с тобой – пятнадцать лет!
– Так было не всегда! И тебе это известно! Я знаю – ты в разводе. Что тебе осталось интересного в супружестве? Создание семьи – конечно, не наука, но я ведь изучал тебя дольше кого-либо.
– Не продолжай, не надо. Женя, я ничем не могу тебе ответить.
Я был уязвлён и не прочь разбито разливаться откровениями. Ветхое корыто, как из сказки Пушкина.
– Ира, у меня нет другого постоянства… Да, мотался странником, бегал по душа́м, но с твоего берега не заведено обратного билета. Я решился стать твоим невидимым клеймом, ты сама дала мне отпечататься в тебе. Если ты задумала меня не замечать – я не испарюсь, буду изнутри жалить чёрной меткой. Ира, твоё право. Ираида, бл…, ну что мне с собой сделать??
– Без понятия.
Дом моего чаяния задребезжал разбившейся вазой самолюбия. Один удар падения на землю – и тысячи осколков унижения. В виде импульсивно-конвульсивных действий. Лепетать ребёнком, непомерно сведущим в женских завихрениях, которому для большего гусарства недостаточно облика мужчины, а не юноши.
Я не вырастаю – я ещё не говорил об этом? Некогда тайком к Ире пришла мысль так распорядиться. Я не воспротивился. Да и как противиться? Дневать и ночевать у разгорающейся девушки в тщательно заброшенных уголках сознания, где нет ни приличий, ни благоразумия – нет цивилизации – там не повзрослеть. Можно разобраться в том, в чём разбираться рядовому человеку предстояло бы веками. И устать от молодости. Вроде бы, Джон Нэш, великий математик, к тридцати годам надел костюм младенца, чтобы поблистать на новогодней вечеринке. Уникум, которому нормально в ползунках…
Я часто представлял себя – разного, нелепого – при нашем рандеву; как я метаюсь, будучи воочию перед Ираидой, словно зверь перед двустволкой. Иллюзорность разъедала мои фантасмагории подобно радиации. Но здесь любые домыслы лопались чрезмерно надувшимися шариками.
Я пал на колени… Предыдущий обмен репликами кончился психическим нокдауном. Руки, возведённые, тряслись, не закрывая виртуальный коридор, в котором я моляще изучал её лицо. Ладони проскользнули по её ногам; и тут я ощутил, что у меня застыли губы.
– Ираида, что мне сделать для тебя, подскажи мне…
Ираида ядовито предложила мне одеться.
Сторонясь, она минует мои рабские объятия за щиколотки. Я погряз в грязи, в терзаниях, в падении, во взрыхленном снегу на краю дороги. Я откинул руку, на какую опирался, приложившись лбом к асфальту, замерев – будто умираю. Я продрог, и минусы по Цельсию, царящие на улице, присоединялись к прочим минусам. Колкая прохлада была анестезией от вонзившейся несдержанности. Я плевал под скулы иней на обочине, сбивающийся в комья и свербящий на зубах. Что уже немного походило на истерику… Как я проклинал своё моральное уродство!
Я снова навернулся, на два шага соскочив, но изловчившись только кончиками пальцев провести по шву её пуховика. Она неторопливо убегала от меня, иногда оглядываясь и смеясь, как кляча.
– Ну и иди, шалава! Я буду ждать…
Все линии и Ирин силуэт всасывались жадным пищеводом поворота. Ирин силуэт… В тусклом освещении грустно становясь миниатюрней и черней, она уже не слышала маленький секрет – я на неё не злюсь и не сержусь. Я лежал плашмя, и мои глаза чуть ли не закатывались от громады неба. Я лежал и мёрз, управляя дрожью. Такое состояние – песочные часы, в которых безразличие стекает в интересность, и наоборот, а потом всё сразу.
Взять и простудиться – и температурить, и прикосновениями поднимать ртуть в градуснике. Мять собой матрас, оркестровым кашлем заставлять соседей корчиться в невысказанной брани. Быть с недугом в теле, а не нашивать новые заплатки перекрёстных рифм на сквозную душу. Разудалым принцам, грезящимся женщинам, не по чину хворь. Иначе же – какие они принцы? И чего им грезиться? Я бы зашвырнул мнимую корону. Если б в результате этого поступка я и испытал бы горечь, то лишь из-за вкуса таблетки арбидола…
Я иду по местности, где Ира собирала дни в огромные букеты. Где весенний воздух сеял в ней гормоны, словно семена, чтоб они взошли пахнущим цветением. Годы кольцевались, годы заплетались в яркие венки – я был как никто в курсе, на кого она их жаждет водрузить. Зна́ком восхищения и повиновения. Мой статус для неё непрерывно находился на уровне зенита, я переливался ореолом исключительности и неповторимости. Я горел над нею, она ко мне тянулась – чего недоставало нам? Правильно – взаимности, внешней и земной. Я послал взаимность – и теперь в истоках, воспитавших Иру, я стал презираем каждым кирпичом, каждым куском кровли, каждой деревяшкой. Ну и – Ираидой…
Я иду и вкладываю всю переполняющую, жутко обнажившуюся для меня бесцельность. Я иду без адреса, в кем-то заселённом лабиринте ночи. Все пути во тьме обезоружены пока от нежелательных прохожих.
С неба понемногу начал расстилаться шёлковый рулон желтизны рассвета. Я выругался криком – птицы подыграли и вспорхнули к веткам. Я повесил нос – луч передо мной пал поверженным кумиром. Мандарины бликов рассыпа́лись шире из многоэтажных окон. Ежедневный праздник.
Столькие часы простёрлись по пятам… Точно капли крови, стряхнутые вследствие бравады и небрежности к не унятой ране. Самое неловкое – наше с Ираидой роковое разбирательство я почти всё прошлое рисовал в уме. А сейчас действительность отняла рисунок; в собственной манере рассадила краски в прозрачности набросков. Я был как в пещере – мало, что пространство глушит моим голосом, так ещё и слепнешь, норовя найти противоположный выход. Нет его. Будто сев на поезд длительного следования, проезжаешь станцию и со щемящей медленностью катишься в депо.
С беспечностью ребёнка ускорял движение рассвет на сизом льду. Планы и причины возвращения исчезли; как комфорт в опасности, если не с тобой старый талисман. Ухожу покорнейше, шлю куда-нибудь, в утреннюю комнату где-то высоко – к ещё, наверно, спящей Ираиде: «Прими моё прощение».
…вИРАж ориентИРА по спИРАли мИРА, Ира, Ира. В бесконечность… Пока-пока.
Воспоминания
Когда мы с Ираидой учились в одном классе, учительский состав, едва не половина, сочинял стихи: сочиняла завуч, сочинял директор, в общем, наша школа здоровым большинством что-то сочиняла. Да и я тогда был тот ещё юнец: рукописи про неразделённое влечение и наши с Ираидой разрозненные будни, чаще ворошились в моей комнате, чем употреблённые влажные салфетки. Ученик-фантом.
Я писал ей песни, и черновики валялись грубо скомканными, бело-голубыми обезглавленными розами. Песни пелись мимо. И совсем не жаль. Ничего свеже́е я не изобрёл. Если уж стихам написано рождаться без предназначения, словно оставляемым в детдоме малышам, пусть они найдут благополучное приемище. Я дарил их щедро, но очень избирательно: помню и горжусь, как они звучали в голове у Ираиды.
Я обитал в голове Иры, сидел с ней в одном классе, но наедине мы оставались лишь по вечерам. Всё другое время мне было отчаянно нечем заниматься.
Но всё же, я хочу поверить в чудотворство времени. Пусть оно не выпустит меня из-за стекла, из-за перегородки в параллельном измерении. Но пусть не лихорадит. Пусть даст невозмутимо заниматься неразумным – подстерегать судьбу у океана событийности.
Я ведь говорил с ней, с девочкой, хранящей покорность и внимательность за пару поцелуев. Ира и не знает, как была бесценна. Я не относился к ней иначе, как к ровеснице прекрасного во мне. Личико, чертами выдающее отсутствие хищных ухищрений, а в глазах просматривались волны её женственности – где-то вдалеке, круче и красивее играющие в гавани девичьих фантазий. Трепет несмышлёной зреющей любви трогал мою кожу, каждое касание врезалось нестираемо, как татуировка…
Если, в самом деле, браки заключаются за нас за облаками, то не угадать, послом каких астралов я сюда попал. В думы Ираиды. И не её одной…
Мы встретились в пятнадцать. Пятнадцать – Ираиде, и мне – те же пятнадцать, как и до сих пор. Она ещё ни разу ни с кем не целовалась. И появился я, которому она без лишней скромности могла подставить губы, а после попросить о большем, большем, большем… Я не допускал невыполненных просьб.
Меня не озадачивала никакая просьба, просто потому, что я не существую.
Наличие меня в слащавых сценах, срежиссированных Ирой, не требовало честности. Я её нашёл… Я просочился в жизнь и заслонил обзор, которым Ираида подбирала кавалеров. Я почти, почти… Я видоизменился при помощи любви, и лишь не приобрёл ни плоть, ни плотность.
Не существовавший одноклассник Ираиды – вот кем тогда был я. А теперь в немилости, отослан, от бессилия забыть, на самый дальний остров её воображения…
На острове
Остров – точно друг, неподдельный друг, на роду которому, надо полагать, написали прямо – принимать меня тем, какой я есть. Он – моя собака. Он знает, что я сноб, и мои достоинства – в вечной мерзлоте чёрствости и зависти. Вся моя романтика – в диванной философии. Если бы я мог ощупывать тела, к этой философии нашлось бы приложение – в постельной философии…
Остров – он готов стать для меня частью меланхолии вокруг.
Мири́мся с недостатками, меряемся ими. Бывает сожаление, из-за невозможности вести с ним наобум закадычные беседы. Хотя – зачем они? Уж лучше намолчать – как насобирать ворованной клубники в кепку – сочные слова, поднести их Ире. Меньше удовольствия: набить до тошноты ягодами рот, измазаться словами. Будто жрущий бомж, ограбивший торгующую в мисках и стаканах садовницу-старушку. Ира и стихи – неделимый фронт, фронту всё – нужнее.
Остров никогда не заприметят с палубы – ни грузный и осанистый губастый капитан, ни шальная стая флибустьеров. Он будто булавка, повисшая на сине-голубых шторах безграничности. Первый и последний подарок Ираиды; шикарная подачка мне, как новичку, внезапно взбаламутившему ставки.
Я был рад знакомству и находил кураж в его невероятности. То, что мы не пара… То, что Ираида отдаётся мне – с наивной ненасытностью, с которой не отдастся никому… То, что она выкроила райский островок, для моих дурачеств и для нас обоих… – неуёмный праздник, спрятавшийся под очередными номерами в этой лотерее. Славно подурачился – а в выигрыше обыденно осталось казино.
Впереди бессрочные тропические годы – чёрные и круглые, словно безупречно загнанные в лузу бильярдные шары. Зонт и раскладушка ждали, как родители, скромно загорая на почтенном расстоянии от прибрежных волн. Ждали, что я вдоволь накупаюсь, наношусь по пляжу с воплями экстаза.
Я не убивался, коротая неприкаянность те пятнадцать лет. Я вне полового удовлетворения, волею рождения, но за пятнадцать лет ласкового солнца остров стал моей эрогенной зоной. Где-то на песке – вмятины и кочки наших с Ираидой развлечений. Когда-то я, водя по Ираиде кончиками пальцев, от её груди к низу живота, рисовал дорогу как сюда добраться…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.