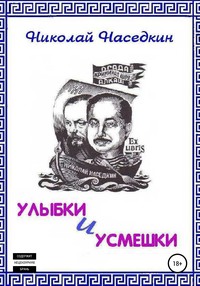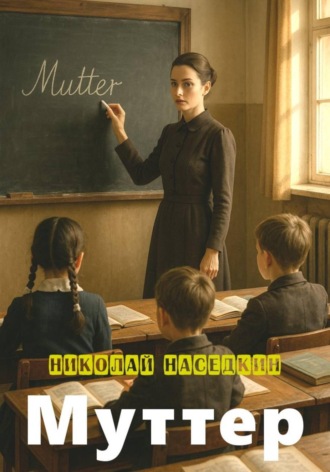
Полная версия
Муттер
Николай Николаевич думал, думал и надумал новый способ борьбы с нищетой: решено было снять железо с крыши дома, с амбаров, наклепать из него дефицитные вёдра, корыта, тазы и выгодно продать. Но то ли железо было не того сорта, то ли мастерства не хватало, только остался дом без крыши, а семья без денег.
В общем, разбушевавшаяся социальная стихия смяла Николая Николаевича, и уже к 1921 году от былого благополучия семьи Клушиных остались жалкие крохи. Хозяйство пошло в разор, в распыл. Нормальная жизнь кончилась. Совсем кратко, пунктирно проглядываю сквозь толщу лет судьбы всех Клушиных.
Николай Иннокентьевич нелепо убился в начале 1918-го, словно не хотелось ему лицезреть полный упадок дома. Он ехал в санях, уснул, упал под передок, лошадь рванула и копытом саданула старика в лоб – отпечаток подковы так и остался на высоком лбу покойника.
Вера Ивановна потужила, потужила да вскоре тихо угасла и поспешила вслед за мужем в обитель вечного упокоения.
Николай Николаевич ещё почти два десятка лет пытался выкарабкаться из принудительной нужды. Господу Богу, видимо, надоело наблюдать его напрасные трепыхания, и в 1937 году Он отдал его в липкие лапы органов. Родным и близким вскоре сообщили, что-де Николай Николаевич благополучно скончался в тюрьме города Нерчинска от сердечного приступа. В то время многие заключённые любили умирать от сердечных приступов.
Софья Павловна пережила супруга более чем на 10 лет и закончила земные дни свои на руках дочери, Анны, уже после войны, в бытность их совместной жизни на станции Дарасун под Читой. Под занавес жизни эта хлопотливая неутомимая женщина, «мать-героиня», сломилась наконец под тяжестью бытия, оравнодушилась – сидела или лежала целыми днями без движения, пила литрами чай вприкуску на пару со старухой подружкой. Измотанной на работе Анне Софья Павловна ставила на ужин жидкую похлёбку или сваренную в мундире картошку, словно напрочь позабыв свой кулинарный талант. И умирала Софья Павловна нехорошо: тяжело, мучительно, пыточно – от рака пищевода.
Теперь – сыновья.
Павел, 1900-го года рождения, успел окончить реальное училище, то есть – среднее учебное заведение с уклоном в математику и естественные науки. Дальше учиться не дала революция. Он воевал в партизанах, притом – за красных, как ни странно. Потом работал в артели золотоискателей, вскоре пошёл в шахту, начал крепко пить, спился очень скоро и вконец – до смерти.
Следующий, Николай, тоже умудрился успеть отучиться в реальном, воевал – и тоже на стороне «голодранцев». После Гражданской служил в Нерчинском военкомате. В 1941-м – мобилизован и пропал без вести.
Александр, не доучившись, пошёл пахать в шахту забойщиком, зарабатывал громадные по советским меркам гроши и умер от благоприобретённого в шахте силикоза, не дожив и до пятидесяти.
Михаил выделялся среди братьев ярко выраженным даром актёра. Он мог так изобразить знакомых, выкидывал такие уморительные коленца, что его так и звали в селе – Артист. Я сам помню дядю Мишу на сцене. Это было в райцентре Заиграево, в сельском клубе, шёл какой-то самодеятельный спектакль. И вот я – а мне лет пять-шесть – помню, как с появлением дяди Миши из-за кулис зал взрывается хохотом и аплодисментами. Я, захлёбываясь от восторга, взвизгиваю-заливаюсь вместе со всеми и гордо взглядываю на соседей: это мой, мой дядя Миша! Кого он играл, в какой пьесе, я, само собой, сейчас не знаю, но ярко помню: изображал дядя Миша труса: он стоит спиной к зрительному залу, молчит, сам весь недвижен, и только обширные полушария под штанинами трясутся, ходят ходуном. Зал – катается… Так вот, Михаил тоже остался недоучкой, подался в работяги (слесарил, шоферил), на-чал увлекаться водочкой и помер тихо-незаметно, так и не став настоящим артистом.
Вадим, ныне здравствующий, тоже построил свою судьбу совсем не так, как предполагали и надеялись его родители. Начал он карьеру уже при новой лучезарной власти батраком, а до этого кончил всего четыре класса школы. Затем попал, образно говоря, в сотоварищи к Ваньке Жукову – стал учеником сапожника. После устроился в мастерскую учеником слесаря (да здравствует диктатура пролетариата!), получил разряд, начал строить и клепать социализм. Вадим Николаевич сменил на своём веку с десяток профессий, в каждой добиваясь высот мастерства – творческая клушинская натура искала и никак не находила себя. Помотался он по стране и сейчас, имея смехотворную пенсию и отдельную квартирку, почитает себя счастливейшим из многих расейских смертных.
Самый младший, Алексей, выучился шоферить, робил до войны за баранкой, а на фронте тоже, как и Николай, пропал без вести. Не его ли прах захоронен у Кремлёвской стены?
Виктор же, которого я пропустил, сразу же не захотел жить при новых нищих господах и в 1919-м году сгорел от сыпного тифа.
Да-а-а, какой бы романист поборзопишущее взялся отобразить в истории семьи Клушиных славную историю первого в мире государства счастья всех народов и каждого человека в отдельности. История не любит сослагательного наклонения, но кто мне запретит вообразить порою: а что было бы, не случись катастрофы 17-го года? Как бы жили в наши дни потомки Николая Иннокентьевича? Понимаю, что меня лично могло и вовсе не быть на белом свете, даже – точно не было бы…
И пусть! Но был бы другой, всё равно – Клушин, и он был бы именно другой – свободный, гордый, независимый, уверенный в себе, избавленный от каждодневных унижений нашей шизофренической действительности…
3
Моя мать родилась в тот момент, когда благополучие семьи начало резко и безвозвратно отграбливаться. Солидный дом в Нерчинске, выездные тройки чубарых да гнедых, праздничные и повседневные обильные столы – это всё она воспринимала уже по рассказам братьев и родителей. Себя маленькой она застала в шахтёрском Дарасуне, в халупе из комнаты и кухоньки, где кучилась вся многочисленная семья Клушиных. Все спали на полу, по-цыгански.
Я словно вижу: субботний вечер, лето, благодать. В доме необычно тихо, все разбрелись-разбежались по своим делам. Окна уже темнятся сумерками, но лампа не затеплена – пока видно. Аня – ей лет тринадцать, у неё смуглое сибирское личико и две тощие косицы – домывает в кухне пол… Она уморилась (горницу уже отдраила), пыхтит, тыльной стороной ладошки утирает пот со лба, стараясь не извозюкаться. У-уф, осталось чуток.
Кроме неё в доме только брат Вадим. Он на шесть лет старше Ани, парень уже взрослый, жених. Вадим собирается на пляски в шахтёрский клуб. Для него, щёголя и франта, первого парня на деревне, сборы – занятие каторжное. Косоворотку шёлковую, с кистяным пояском, полчаса прилаживал на плечах да оглаживал, а теперь вот с сапогами мучается. Сапоги – самый последний взвизг моды. Полгода копил гроши и вот наконец-то урвал. Не сапоги – хромовые чулки. Лезут только на скользкий шёлк, да и то с превеликим скрипом. Вадим употел не меньше Ани и, взъярившись, помогает себе крепким словцом:
– В лоб твою мать!..
– Как тебе не стыдно! – выпрямляется Аня. – Перестань лаяться!
– А-а, иди ты! – отмахивается брат. – Занимайся своим делом. А-ах, суки! В мать-перемать!..
Бьёт каблуком об пол, побагровел.
И вдруг – тарарах! Конец света. Сестра подскакивает и смачно перетягивает братца-сквернавца грязной тряпкой по шёлковой праздничной спине…
Что уж там дальше было, как взревевший Вадим быком гонялся за Аней по двору – можно себе только представить. Но вот что странно. Это примерно 1931 год, разгар коллективизации. Голод в стране. Сами Клушины бедствуют ужасно. Наверняка мать мне что-то и об этом рассказывала, и я помню – рассказывала, но вот ярче всего видится-воображается мне именно эта сцена, о которой Анна Николаевна вспоминала не раз со смехом: пахучий летний вечер – она, маленькая, уставшая, разгневанная, наказывает старшего брата-матюгальщика…
Впрочем, мне легко увидеть в красках, в движении и трагическую сцену из детства Анны Николаевны. Так и вижу: класс, заполненный коротко стриженными мальчишками и девчонками – косички редко у какой из них, у Ани ещё двух-трёх. Одеты – сообразно, дети пролетариев. Глаза горят фанатичной верой в грядущую и очень скорую победу коммунизма. Шум и говор.
Аня сидит на камчатке, зажала уши, повторяет и повторяет цитаты из последних работ товарища Сталина – спросят обязательно. Вон уже Витьку, которого дразнят её женихом, приняли в ряды вээлкаэсэм – единогласно… Вон уже и Нюрка соседская, пунцовая, восторженная, тараторит – благодарит за доверие, клянётся в вечной и беззаветной преданности родной Коммунистической партии большевиков и лично лучшему другу детей товарищу Сталину. Сейчас её, Анина, очередь…
Но что это? Что такое говорит Яшка Рахман?!
– Думаю, в связи с вышеизложенным ясно, что Клушина недостойна быть в наших светлых рядах. Сегодня она рисует пасхальные яйца и кресты, завтра побежит в церковь молиться – разве это совместимо с высоким званием комсомольца?..
Аня сдерживается изо всех сил, кусает губы и с ужасом смотрит на товарку Нюрку – это ей на днях Аня в шутку передала записку с нарисованным раскрашенным яйцом и подписью: «Христос воскресе!» Пошутила…
Тогда для Ани это была трагедия – чуть не померла от стыда и горя: не приняли в комсомол. Ужас!
Но, по правде говоря, общий воспоминательный тон Анны Николаевны в рассказах о детстве был эмоционально приподнят, светел. И это легко объяснимо. Мемуары о первых годах жизни у большинства людей окрашены в розовые тона. Не говорю уж о «Детстве» Л. Толстого с умилительным описанием райской жизни Николеньки, но даже «Детство» М. Горького, где сплошь и рядом драки, побои, увечья, смерти и кровь – поражает доброй улыбкой автора, ностальгическими нотками, звенящими то и дело в повествовании.
Анна Николаевна вырастала в дни упадка и полного распада семьи Клушиных, но по сравнению с дальнейшими годами её жизни детские годы были и оставались для неё лучшим, благословенным временем. Единственная дочь у родителей, последыш; единственная сестра у семи старших братьев – просто сказочный мотив…
Почти всем братовьям Клушиным новая жизнь помешала получить хотя бы среднее образование «с уклоном в математику и естественные науки», сделала их пролетариями-неучами. Но к тому времени, когда подросла Аня, в семье – по советским меркам – уже жилось вполне сносно: все братья пахали, заработанную копейку несли в дом, так что Анна Николаевна до самой смерти своей почти всерьёз считала – в детстве она жила при коммунизме.
В школе нежданно проявилась у неё тяга к немецкому языку. Это тем более удивительно, что в роду Клушиных по-иноземному никто вроде бы не гутарил. Хотя, кто знает, кто знает… Одним словом, Аня училась прекрасно и после школы легко поступила в Иркутский педагогический институт. Смелость поразительная – девчонкой-подростком бросить свой родимый, пусть и тесный, дарасунский дом, оставить родителей, братьев-защитников, уехать за тыщу вёрст в чужой город на худосочные общежитские хлеба. Больше того, когда Аня окончила два курса, ей, в числе трёх лучших студентов, предложили ни много ни мало: в Москву доучиваться поедешь?
Я всё думаю: видимо, мать моя рождена была для какой-то необыкновенной, какой-то сверхсчастливой жизни, если Судьба даже в тех извращённых, перевёрнутых условиях действительности подкидывала ей такие подарки. Аня не долго колебалась и полетела как в другую галактику в далёкую киношную Москву, в 1-й Государственный педагогический институт иностранных языков…
Совсем недавно, уже после смерти матери, я отыскал это здание на Остоженке, рядом с Крымским мостом. Классический московский дом – три этажа, мощная колоннада, вековые деревья в сквере перед фасадом. Они помнят наверняка мою матушку. И не только её, но, может быть, даже и писателя Ивана Александровича Гончарова, который учился здесь в своё время в Коммерческом училище; и Сергея Михайловича Соловьёва, историка – ведь он родился в этом здании, о чём напоминает мемориальная доска. Ане Клушиной повезло: в таких величественных зданиях, насквозь пропитанных историей, учёба имеет особый привкус, более значима, глубока… Чувствуют ли это ярко раскрашенные девчушки и сплошь заджинсованные косматые парнишки, бегающие сейчас по литым чугунным плитам пола в Государственном лингвистическом университете, что расположен теперь в этом дворце? Ощущают ли?..
Анна Николаевна любила вспоминать московские студенческие годы. Несмотря ни на что. А под «что» подразумеваются: настоящий голод, подлинная нищета. Ни мать, ни братья не могли регулярно помогать ей деньгами – так, разве трёшку-пятёрку к празднику кто пришлёт. А уж стипендия в тогдашних вузах была с самый малый «гулькин нос». Девчонки-студентки клевали в основном хлеб, чай да супец. Лишь одна девица в комнате, где жила Аня, то и дело получала жирные посылки из дому, «з пiд Харкiва», и, упрятавшись под одеяло, хрумкала там в темноте и духоте чем-то вкусненьким и неделимым. Бедные пролетарки сожительницы молча её презирали.
Но мало того, что жить приходилось на гроши, Аня и из этих рублишек жестоко экономила каждую копейку и, сэкономив, спешила достать хоть самый захудалый билетик в Большой театр или во МХАТ. Ну вот откуда в ней взбурлила вдруг любовь, даже страсть к театру? Тоже загадка природы. В своих забайкальских рудниках о театре много ли могла она узнать? И особенно почему-то притягивал Аню балет – самое изысканнейшее, самое барское из искусств. Большой театр влёк её к себе не слабже, чем пивная пьяницу.
Я мог бы обрисовать поживописнее внутренность Большого, хотя ни разу побывать в нём мне не удалось, сейчас не 1930-е годы, ну да при игре воображения и кино-теле-знаниях нетрудно увидеть, как в этом буржуйском театре сверкают люстры, ложи блещут и всё такое прочее. Вероятно, и читателю также. Посему снова обойдёмся без подробностей. Просто – зрительный зал, ложи, галёрка, партер, сцена. На сцене танцуют пуховые маленькие лебедята. Оркестр накатывает и накатывает на разомлевших зрителей волны хрустальной музыки Чайковского. На галёрке, вытянув, изогнув, перекрутив шею – хотя б полсцены видеть! – висит на краешке сиденья худая смуглая черноволосая девчушка. Скорчилась, проглотила дыхание, истомила бедную шею свою, в платьишке – скромнее некуда, голодная, да о голоде-то забыла напрочь, наслаждается, живёт… Что ей Чайковский? Что она ему?.. Нонсенс!
Опишу лучше, как Аня после лекций, измотанная, опять же по привычке, с подтянутым животом, бредёт-гуляет по Тверской. Хотя, вру: тогда, перед войной, улица уже именовалась в честь величайшего пролетарского гения.
Бредёт, значит, Аня Клушина по бывшей и будущей Тверской, благополучно минует один продуктовый магазин, мужественно отворачивается от витрин другого, задерживает дыхание, дефилируя мимо столовой… Как вдруг, словно в стеклянную стену лбом ткнулась: ноги онемели, дальше не идут. Ну никаких нет сил у юной девчонки с утонувшим в слюне языком пройти мимо кричащей вывески – «Восточные сладости». Восточные сладости! Да что вывеска – запах, запах какой умопомрачительный. Не запах – а-ро-мат!
Минуту, вторую, тягучую третью борется с собой Аня, давясь слюной, сжимая в кулачонке остатние гроши. Увы, не Зоя Космодемьянская, не Жанна д’Арк – шагнула в пахучий сладкий рай, вцепилась в кулёк с халвой, здесь же, в уголке за зеркальной колонной, закрыв глаза, жуёт, пристанывает. И совсем ей в ту секунду не хочется думать о скором неизбежном похмелье голода после сладкого восточного кутежа…
И опять подчеркну: мать моя и студенческие годы вспоминала всегда умильно, со вздохом сожаления о неповторимости того времени. Ведь жили же, жили, чёрт возьми! Ведь бегали через мост в парк Горького кататься на коньках – это ли не праздник? Ведь влюблялись девчонки-студентки и на свиданки бегали, наряжаясь по очереди в чей-то шикарный, по их меркам, жакет. Ведь целовалась матушка моя в студенчестве под московским небом с каким-то там юным строителем коммунизма и однажды даже чуть было всерьёз не влюбилась, да вот незадача: красавец-то красавец парень, а театр не любит, оперу презирает, а балет и вовсе считает за декадентское вражеское искусство. Недаром при всей мужественной красоте этого широкоплечего комсомольца лобик у него подкачал, не вырос, был дебильно-узким – точь-в-точь, как у питекантропа.
Не сложилась любовь, не выпелась и – слава Богу. Представить моего папашу узколобым – весёленького мало. Да и времени тогда у Ани для любви, свиданий, фиглей-миглей много ли оставалось? Она и в столице училась от души. И мудрёного в том нет, что перед распределением ей предложили: хотите стать переводчицей, остаться в Москве? Шёл 1940-й год, уже слышалось-ощущалось, как пишут наши романисты-эпики, дыхание войны…
Если бы я, сегодняшний, каким-то чудесным образом оказался в тот момент при том разговоре, я бы затаил дыхание: ну, ну же – соглашайся! Стать москвичкой, обеспечить детям своим статус москвичей – ну, ну же! Вы попробуйте, втолкуйте мне, что если бы мать моя в 40-м году осталась в столице, меня-то, лично меня ведь на свете не было бы, у Анны Николаевны росли бы другие дети… А мне всё равно обидно и жалко, что она тогда отказалась. Отказалась наотрез.
А отказ её объяснялся весьма прозаически – страх. Нет, не страх войны и перспективы попасть на фронт (всё ж так реально в угрозу войны отдельный человек мало тогда верил, замороченный газетными всхлипами и кликами по поводу великой дружбы с Германией), а страх за один пунктик в своей биографии. Каким-то чудом клеймо «дочь врага народа» не слишком отчетливо проштемпелевалось в её документах и в её судьбе. Может быть, Николая Николаевича, отца её, не успели в тюрьме заклеймить окончательно врагом рабочих и крестьян, как он уже поспешил помереть от «сердечного приступа». Однако ж, мать моя всё время помнила, что она дочь репрессированного, и догадывалась: если даст согласие идти в переводчицы, её биографию перелопатят вдоль и поперёк. Всплывёт ещё и подозрительный эпизод с несостоявшимся комсомольством…
– Нет, – сказала она, – переводчицей быть не могу – недостаточно знаю язык.
Воображаю, как ошеломила преподавателей: Анна Клушина, одна из лучших студенток курса, – недостаточно знает язык? Уговаривали её, приструнивали – ни в какую.
За это студентка-отличница Анна Клушина получила то, что заслужила – Сибирь. И распределили её не в родное Забайкалье, а – на Алтай, в город Рубцовск. Не знаю, как она там жила, знаю только, что вызвала к себе мать, и Софья Павловна с охотой примчалась: матери с дочкой завсегда сподручней жить, нежели с сыном и снохой. Знаю я также – трудовая книжка матери передо мной, – что преподавала Анна Николаевна всю войну немецкий вражеский язык в Рубцовском педучилище.
Более наглядно представляю то, как дежурила Аня в жутких госпитальных палатах военной поры. На всю жизнь осталось у неё какое-то фетишированное идолопоклонское отношение к банальной марганцовке. В доме нашем, где бы мы ни жили, стояла в укромном месте бутыль с рубиново-чёрным густым раствором марганцовокислого калия. Чуть где порез, ссадина у меня ли, у сестры Любы, у самой ли матери, – мигом откупоривалась заветная бутыль и свежая рана обильно смачивалась кусачей жидкостью. Никаких йодов, никаких зелёнок и никакого одеколона Анна Николаевна не признавала: ошпарит порез жгучей марганцовкой и – пляши, ойкай, скули от огненного зуда. Зато, глядишь, через день уже от ранки одни воспоминания на коричневом пальце. Словно живой водой зализало.
– Спирта почти не было, для операций берегли, – рассказывала, помню, муттер, – а для перевязок марганцовку вёдрами разводили. Разбинтую рану, а там черви гимизят: лето, жара. Вычищу, соскребу червей ложкой, а потом на рану марганцовку прямо из кружки. Солдатик, бедный, губу прокусит, вертится, мычит – терпи, терпи, приговариваю, зато рука целой останется. Так вот марганцовкой и спасались…
К слову упомяну, что такая же крепкая вера в чудодейственную целительную силу имелась у матери и по отношению к дегтярному мылу. Кому, может, и не весьма приятен тяжеловатый, смолисто-терпкий запах этого дешёвого мыла, а я так сызмальства привык к нему, притерпелся. И – совпадение ли, просто ли случайность – за полгода до смерти Анны Николаевны запасы лечебного дегтярного мыла у неё иссякли. Она просто-напросто умоляла меня в письмах найти, купить и выслать ей волшебного мыла, полагая, что-де в наших-то европах подобная мелочь должна продаваться на каждом шагу. Увы, тщетно я бил ноги в поисках дегтярного чуда – дефицит.
И надо же случиться такой подлости: возвращаясь с похорон матери через Москву, я зашёл в первую попавшую аптеку, на Бутырской, и пожалуйста – проклятое дегтярное мыло стоимостью 14 копеек валяется на витрине. А вдруг оно чем-нибудь и помогло бы матери, отодвинуло от неё хворь?
Мы ж ничегошеньки не знаем – почему живём, от чего и как умираем…
4
В Анне Николаевне, где-то в душе её или в сердце, угнездилась с юных лет и принялась командовать её судьбой охота к перемене мест.
Как уехала она из дому шестнадцатилетней в Иркутск, так и потянулась её бесконечная одиссея. Да благо бы путешествовала из Иркутска в Москву, из Москвы в Ленинград, а там бы и в Париж, к примеру, или хотя бы в Киев. Куда там! Начав с городов, Анна Николаевна принялась потом обживать один за другим самые глухие сибирские райцентры и сёла – Карымское, опять Дарасун, Александровский Завод, Калангуй, Черемхово, Заиграево… Лишь в Новом Селе, под Абаканом, мать моя наконец осела, попривыкла, протянула последние тридцать лет своей жизни и упокоилась на вольном ветреном новосельском кладбище.
Попробуйте, поищите на карте страны все эти Калангуи да Черемховы – и в самую сильную лупу не отыщете. Дыра географическая, она и есть дыра. В этих Богом забытых местах, поди, до приезда Анны Николаевны и о немецком чудном языке толком не слыхивали. Зачем, почему она меняла Карымское на Александровский Завод, мыло на шило?..
А пока, после войны, она поднялась с места, сагитировала свою родительницу, Софью Павловну, и махнули они в Бийск. Момент был, как любят сейчас политики выражаться, судьбоносный: Анна Николаевна вознамерилась было повысить свой жизненный и гражданский статус – из задрипанного Рубцовска перебраться в настоящий и вполне приличный город. Кто знает, сложись обстоятельства удачнее, она из Бийска перевелась бы потом в Барнаул, а там и на Москву бы замахнулась. Но человек предполагает, а Бог, как известно, не дремлет. Он подбросил Анне Николаевне испытание, которое выдержать она не смогла.
В Бийск они приехали ближе к вечеру. Аня, оставив Софью Павловну с вещами на вокзале, заспешила в город разыскивать гороно. Был август. Сумерки набухали лениво, но с каждой минутой на плохо офонаренных улицах чужого города становилось всё неуютнее. Скорей, скорей найти гороно, там сторож поможет дозвониться до заведующего – в гостиницу на ночь устроят или хоть бы в школу какую пустили переночевать.
Прохожие попадались всё путаники: один туда указывает, другой совсем в обратной стороне горотдел народного образования – ну прямо-таки анамеднись – видал. Совсем свечерело. Аня, голодная, измотанная, злая и обиженная на весь белый свет, повернула к вокзалу. Вдруг к ней приблизился мужчина: высокий, худой, в форменной фуражке, в сапогах и плаще.
– Девушка, вы что-то ищете? – голос доброжелательный, приятный.
Аня качнулась навстречу нежданному доброхоту.
– Да, да, вы знаете, уже с ног сбилась. Мне отдел народного образования нужен, гороно.
– Нет проблем, девушка. Идёмте – покажу.
Незнакомец чуть не схватил Аню за руку, нетерпеливо повторил:
– Ну, идёмте же!
Аню насторожил натиск, нотки странного нетерпения в голосе. Она невольно спрятала руку за спину, отступила на шаг. Мужчина хохотнул, наклонился к Ане, показывая ближе фуражку.
– Вы что, боитесь меня? Я же милиционер. Видите?
И точно, Аня только теперь разглядела, фуражка на мужчине милицейская, с красным околышем. Аня обрадовалась, отмякла, расслабилась.
– Вот хорошо-то! Проводите меня, пожалуйста, до гороно, помогите. Я только что приехала в ваш город, ничего ещё не знаю. Я – учительница. Буду здесь работать. Я иностранный язык преподаю…
Аня тараторила, а они уже шли улицами, куда-то сворачивали. Провожатый начал вопросы задавать, расспрашивать: одна ли она приехала, где вещи, много ли, документы с собой ли?.. Вопросы были странноваты.
И вдруг Аню как обухом по голове: фуражка-то милицейская, да и сапоги, может, тоже, но вот плащ-то явно не милицейский, плащ-то замызганный – в таком на рыбалку ходят или по грибы. И вопросы эти, вопросы-расспросы… Сердечко у Ани ухнуло вниз, скукожилось. Она вцепилась в ридикюль, где покоились документы и деньги, замедлила ход. «Милиционер», что-то бурча, вышагивал чуть впереди – увлёкся. Они шли по совершенно глухой улице, уже окраинной, впереди угадывался зловещий пустырь.
Аня развернулась тихонько и рванула сломя голову обратно – аж ветер в ушах запищал. Благо, что уже тогда, в юности, она терпеть не могла высоких каблуков. Как же она летела! Но лететь-то летела, а мысль в голове билась-пульсировала: от долговязого так просто не убежать. Что делать? Аня по наитию перескочила на другую сторону тёмной улицы и нырнула в ближайшую подворотню. Забрехал сурово пёс. И в ту же секунду она увидела «милиционера» – он быстрым шагом спешил по той стороне, рыскал, всматривался по углам. Сейчас, вот-вот и – узрит.