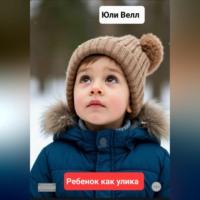Полная версия
Ребёнок как улика

Юли Велл
Ребёнок как улика
1 Солнышко
Воздух в раздевалке был густым от запаха мокрых варежек, сладкого компота и детской энергии. Дёма, ещё не стряхнувший с себя городскую хмарь и напряжение рабочих переговоров, машинально искал глазами яркую розовую куртку Маши.
И тут он его увидел.
Мальчик, лет трех-четырёх, упорно натягивает зимний ботинок. Шатен с непослушным вихром. Когда он поднял голову, чтобы что-то сказать воспитательнице, Дёму будто ударило под дых.
Свои. Черты. Овал лица, разрез губ, эта упрямая посадка головы. И главное – глаза. Гетерохромия. Левый – тёмно-карий, как у Дёмы, как у его отца. Правый – светлое море, с янтарным крапом. Зеркальное отражение. Та самая редкая, мужская линия передачи, о которой он слышал от бабки в детстве: «Наш признак, Демьян, по мужчинам кочует».
Мысли в его голове налетели, как ураган, холодные и цепкие:
«Генетический курьез? Совпадение? Невозможно. Это настолько редко…»
«У отца был я. У деда – отец. Больше ни у кого в роду…»
«Значит… кто? Кто его отец? Боже, у меня же был тот отпуск… четыре года назад?» В памяти всплыл смутный образ, легкомысленный курортный роман, о котором он старался не вспоминать. Или это всё фантазии на пустом месте?
«Воспитатель сказала – новенький, из другого города. Какого? Почему именно здесь?»
«Стоп. Успокойся. Миллионы людей. Статистика. Просто похож…» Но он снова посмотрел на эти глаза. Разные. Его глаза. Статистика молчала.
– Дядя Дёма!
Машинальный голосок вывел его из ступора. Маша, маленький розовый комок, уже висела на его ноге. Дёма на автомате улыбнулся, подхватил племянницу, натянул кофту на неё. Розовую курточку, штанишки тёплые.
– Ну что, пушинка, поехали домой? Мама задерживается.
Диалог с воспитательницей прошёл как в тумане. Он кивал, улыбался, благодарил, а сам краем зрения ловил каждое движение мальчика. Тот спокойно собирал рюкзачок. Его забрала пожилая женщина, устало-нежная, с глазами, полными заботы. На него не похожа. Совсем. Дёма поймал её взгляд, кивнул вежливо-отстранённо. Сердце колотилось где-то в горле.
Всю дорогу до машины, усаживая Машу в детское кресло в своём внедорожнике, он продолжал вести внутренний диалог:
«Спросить? Нет, нельзя. С чего вдруг? Спровоцировать скандал, испугать женщину…»
«Молчать? А если это правда? У меня есть сын? Человек, который существует, ходит в один сад с Машей, и я ничего о нем не знаю?»
«А если это не мой? Буду выглядеть идиотом, который навязывается. Или хуже – как маньяк.»
«Но глаза… Господи, эти глаза… Они же смотрят на мир так же, как и мои. Один – в папу, другой – в… неизвестность.»
Он завёл двигатель, и гул мотора на секунду заглушил хаос в голове. Маша что-то лепетала с заднего сиденья про котёнка и кашу. Дёма отвечал односложно, «угу», «вот как», а сам видел перед собой только два разных глаза в лице незнакомого мальчика.
Домой он приехал с камнем на душе. Сестра, измотанная авралом на работе, встретила их на пороге со словами благодарности и усталым: «Спасибо, брат, ты меня выручил, этот проект меня добьёт…».
– Всё в порядке, – сказал Дём, обнимая её. И в этот момент его взгляд упал на семейную фотографию в прихожей: он, подросток, с отцом. И эти глаза. Один в один.
Вопросы не отпускали. Они только начались.
«Что теперь делать? Наблюдать? Выяснять?»
«И что страшнее: узнать, что это твой сын, или узнать, что это – просто чужой ребенок?»
Он понимал, что тихий вечер превратился в точку отсчёта. Точку, после которой его упорядоченный мир, дяди, мужа, успешного бизнесмена дал трещину, и из неё смотрели на него два разных, но до боли знакомых глаза.
Ирония ситуации заключалась в полном, абсолютном противоречии фактов.
Узнали мы об этом, всего двенадцать месяцев назад тщательные обследования поставили жирную точку в вопросе о его репродуктивной функции.
Они с Ингой шли к этому осознанно: десять лет брака, стабильность, обоюдное желание – казалось, всё складывается в идеальную картину. Но месяц за месяцем тишина в ответ на их надежды становилась всё громче. И тогда они пошли проверяться вместе, рука об руку, как и договаривались – делиться всем, даже самым тяжёлым.
Результаты жены были в норме, а вот его заключение навсегда разделило их жизнь на «до» и «после»: диагноз звучал как сухой, безжалостный вердикт, выносящий приговор его отцовству ещё до того, как оно могло начаться. Этот факт – непреложный, подтверждённый цифрами и снимками – повис между ними тяжёлым, невидимым камнем, о который больно спотыкались даже самые нежные слова и попытки утешить друг друга.
2 Переезд
Зима в Москве была другой. Не как в её родной Щербинке – задумчивой и запашистой, а городской, срывающим с неба всю копоть и суету.
Переезд был прыжком в пустоту, но прыжком вынужденным: одна с двумя трехлетками на руках, предложение хорошей работы в столичном офисе было спасением. Новые возможности, новые деньги, которые всё равно утекали, как вода сквозь пальцы, в московские цены: аренды, сады и кружки.
Сегодня из сада её сына забрала бабушка, соседка, которую Катя в сердцах звала «спасательным кругом». Тимур, её умный мальчик, крепко держал за руку Марью Ильиничну.
– Мамочка! – крикнул он, зайдя домой, и Катю, как всегда, пронзила волна щемящей нежности и вины.
– Спасибо вам огромное, Марья Ильинична, – Катя чуть не плакала от благодарности. – Без вас я бы пропала. Тая опять с температурой, врач был, сказал, осложнение после ОРВИ…
– Ничего-ничего, родная, Тимурка у тебя золотой, – кивала бабушка, передавая мальчишку и его рюкзачок в виде динозавра.
Тая. Её дочка, вторая половинка тихого Тимура. Бойкая, звонкая, с глазами, как два кусочка весеннего неба. Именно из-за неё всё и закрутилось. Родив двойню, Катя поняла, что в маленьком городе она упрётся в потолок – и финансовый, и возможностей для особенной Таюши, которая с младенчества требовала больше внимания, больше заботы, больше… всего. Москва манила перспективами: хорошие логопеды, развивающие центры, будущее.
Тимур, взахлёб рассказывал про первый день в новом садике. Про мальчика, который поделился машинкой, про горку, про компот.
– А ещё там дядя один, как я, мама, – вдруг сказал он, ковыряя сапог о бордюр.
– Как ты? – не поняла Катя.
– Глазки разные. Один тёмный, другой светлый. Я спросил у воспиталки, а она сказала, что так бывает. Клёво!
Катя замедлила шаг. В животе что-то ёкнуло, холодной иглой. Гетерохромия. Редчайшая штука. У Тимура как раз такие глазки в отца, у Таи глаза обычные, мои, голубые, ясные. А тот мужчина, с отпуска, который остался далёким, смутным воспоминанием о морском ветре и легкомыслии молодости, – у него были такие глаза. Разные. Он сам ей рассказывал об этой фамильной черте, передающейся сыновьям.
«Не может быть. Просто совпадение. В Москве миллионы людей», – строго сказала она себе. Но пальцы на руке почему-то похолодели.
Дома пахло ромашкой и детским жаропонижающим. Тая, горячая, как уголёк, дремала на диване. Обняв дочь, прижавшись щекой к её влажному лбу, Катя поймала себя на мысли о том дяде из садика. И о том, что её бегство в Москву было попыткой убежать не только от провинциальной тесноты, но и от призраков прошлого. От вопросов, на которые у неё не было ответов. И теперь, похоже, прошлое само нашло её. В виде случайной ничего не значащей фразы трёхлетнего сына. «Один тёмный, другой светлый».
Ей стало вдруг страшно и одиноко.
Их крепостью стала арендованная двухкомнатная квартира в панельной высотке в хорошем районе Москвы. Не подарочная упаковка, а скорее надежный кокон. Катя, с её врождённой способностью к систематизации, превратила эти семьдесят квадратов в образец функционального уюта.
Сердцем дома была небольшая, но светлая гостиная. Её Катя совместила с рабочим кабинетом и своей спальней. У стены – раскладной диван, застеленный немарким пледом, который днём служил территорией для игр, а ночью – её постелью. Напротив, под самым окном, царил её профессиональный алтарь: аккуратный письменный стол с мощным ноутбуком, двумя мониторами для сводных таблиц и стопкой папок, рассортированных по цвету и срочности. Здесь, когда дети засыпали, она погружалась в мир цифр, а на краю стола, как талисман, всегда стояла детская фотография в рамочке.
Но главной гордостью была детская. Катя выкрасила стены в тёплый, молочный цвет и разграничила пространство на два королевства. Справа – мир Тимура: кровать-машинка, полки с аккуратно расставленными роботами и книжками про технику, коврик с изображением дорог. Слева – вселенная Таи: кровать под балдахином из легкой кисеи, столик для творчества, заваленный карандашами и пластилином, и стена, увешанная её рисунками – яркими, как и она сама. Комната дышала их характерами, их снами, их жизнью. Она была чистой, светлой и наполненной любовью – островком стабильности в море московской неустроенности.
Её путь в Москву был выстроен не на амбициях, а на честном профессионализме. В родном городке Катя несколько лет проработала бухгалтером в скромном филиале крупной торговой сети. Она была тем самым незаметным, но незаменимым человеком, который видит ошибку в отчёте с первого взгляда, помнит все сроки сдачи и умеет договориться с налоговой. Её цифры всегда сходились, её балансы были безупречны. Она не рвалась вперёд – у неё просто не было на это времени с двумя младенцами на руках. Но её работу заметили.
Приглашение в головной офис пришло как гром среди ясного неба и как спасательный круг одновременно. Это было признание, о котором она не смела мечтать, и шанс, которого она не могла упустить. В Москве её ценили не меньше: здесь она быстро заслужила репутацию человека, на которого можно положиться. И что было важнее всего – здесь ей пошли навстречу, разрешив гибкий график. В дни, когда Тая или Тимур болели, Катя могла работать из дома, разрываясь между температурными графиками дочки и финансовыми отчётами компании. Это был изматывающий баланс, но баланс возможный. Её работа была не просто источником дохода; она была её мостиком в новый мир, доказательством себе, что она может не просто выживать, а строить будущее для своих детей – одно, правильное, стабильное, где каждая цифра на своем месте.
3 Навязчивая мысль
Мысли о мальчике превратились в навязчивый, зудящий фон всей его жизни. Они вкрадывались в паузы между деловыми звонками, мелькали на экране компьютера вместо цифр, будили посреди ночи. Диагноз «бесплоден» и живой ребёнок с его глазами не уживались в голове. Это был сбой в матрице, ошибка в расчётах, которую его рациональный ум отчаянно пытался исправить, но не мог. Пассивное ожидание и внутренняя буря его разрушали.
– Игорь, зайди ко мне. – звонок в службу безопасности.
– Две минуты бос.
– Игорь, есть задача. Срочная и деликатная. У Машки в садике, у неё появился новый… друг. Мальчик. Нужно узнать о нем. И хотелось бы быстро.
– Понял. ФИО родителей, адрес, место работы – стандартный набор соберём в течение суток, максимум пару.
– Все что знаю, это гетерохромия. Вот и вся зацепка. Детский сад № 474, «Солнышко». Мальчик с разным цветом глаз. Его должно быть не так сложно вычислить.
– Кого то, мне напоминает. – ухмыляется.
– Нестандартная примета – это даже лучше полного отсутствия данных. Договоримся с заведующей о доступе к спискам и фотографиям детей, побеседуем с персоналом. Действуем максимально тактично?
– Тактично, но тотально. Мне нужно всё: кто родители, чем занимаются, какое финансовое положение, репутация, с чем едят.
– Будет сделано. Гетерохромия – хорошая зацепка. – Встаёт.
– Давай, жду. Игорь, …никому.
– Да понял я, понял, сам займусь. – улыбается друг. Он знает о моей проблеме, поэтому вопросов не задаёт.
В пятницу он отменил позднюю встречу и, не став звонить сестре, сам направился в сад. Он придумал себе оправдание: «Просто хочу порадовать Машку, забрать пораньше, свозить на каток». Но сам себе не верил. Сердце билось чаще, когда он подходил к знакомой калитке, стараясь не выглядеть подозрительным, блуждая взглядом по детской площадке в поисках двух разных глаз.
Из дверей выскочила Маша, как обычно, радостно вопя: «Дядя Дёма! Ты что тут?» Он подхватил её на руки, ощутив знакомый вес и запах детских волос – что-то настоящее и простое среди своего внутреннего хаоса.
– Решил тебя забрать по раньше, пушинка. Может, на каток? Или мороженое? – сказал он, и его голос прозвучал неестественно бодро.
– Морошено! Морошено! – захлопала в ладоши Маша, и на мгновение её искренний восторг отвлёк его.
Но глаза его уже искали, сканировали группу выходящих детей, лица воспитателей. Его не было.
– Ну что, все ребята уже разошлись? – как бы невзначай спросил он у Маши, пока она натягивала варежки.
– Угу. Тимулька сегодня не пришёл, – с важным видом сообщила девочка, сосредоточенно борясь с молнией на куртке.
Всё внутри Дёмы напряглось, будто его натянули струной.
– Тимулька? Это который с разными глазками? Он что, в другой сад перешёл?
– Не-а, – философски протянула Маша, наконец-то справившись с застёжкой. – Он заболел. Кашляет. Воспитательница говорила. Мы ему открытку нарисовали, чтобы он скорее выздоравливал.
«Заболел». Слово было обыденным, детским, но оно обрушилось на Дёму с неожиданной силой. Вместо разочарования в нём вспыхнула острая, почти отцовская тревога. Чем болен? Насколько серьёзно? Он мысленно корит себя за эти вопросы – какое, в сущности, он имеет право? Но остановить поток воображения уже не мог. Он видел мальчика не здесь, на площадке, а там – дома, горячего, кашляющего. И эта картина беспокоила его куда больше, чем должно было.
Он посадил Машу в машину, купил то самое мороженое, съедим дома. Весь его план – «случайно» увидеть, удостовериться, – рухнул. Но на смену ему пришло не облегчение, а новая, ещё более гнетущая мысль: а что, если он больше не появится? Что, если это был единственный шанс, и он его упустил?
Дорогой Маша щебетала о чём-то своём, а Дёма кивал, погружённый в тяжёлое, липкое раздумье. Теперь его преследовал уже не призрак возможного сына, а призрак его возможной болезни и своего полного, абсолютного бесправия что-либо о нём знать. Это было невыносимо. Он понимал, что так больше продолжаться не может. Нужен был следующий шаг. Но какой? Это вызовет вопросы. Подкараулить мать? Это уже граничит с безумием. Он загнал себя в ловушку, из которой не видел достойного выхода. И единственной зацепкой, которая у него теперь была, оказалось имя.
Тимулька.
4 Воспоминания
Их история с Ингой казалась эталонной: сошлись на третьем курсе, одногодки, пара отличников с амбициями. Инга быстро разглядела в Дёме не просто перспективного парня из хорошей семьи, но и родственную душу – такого же целеустремлённого, умного, не желающего довольствоваться малым.
Она и сама была непромах – с острым умом, безупречным вкусом и твёрдым пониманием, чего хочет от жизни. Их союз с самого начала напоминал успешный стратегический альянс: общие цели, взаимная поддержка, восхищение амбициями друг друга. Тогда, в душных аудиториях и за кофе в студенческой столовой, будущее виделось им как чёткий, прямой путь, который они пройдут рука об руку, не сбиваясь с шага.
Год, когда всё треснуло. Подозрения Инги в измене, месяцы тягостного молчания в одной квартире, её сжатые губы и его чувство загнанного в угол. Они решили «отдохнуть друг от друга». Она – на Мальдивы с подругой. Он – в Турцию, в хороший отель «всё включено», с твёрдым намерением напиться, забыться и ни о чём не думать.
Воспоминания о том отпуске всегда были окрашены в мягкие, слегка размытые тона – как выгоревшая на солнце фотография.
И он встретил её. Девчонку. Даже имени теперь толком не мог вспомнить… Катя? Катюша? Что-то простое. Она была юной, почти невесомой – белокурая, загорелая тростиночка в простом сарафане. В её глазах не было ни расчёта, ни желания что-то вытянуть. Только лёгкость, смех, искренний интерес к нему как к человеку, а не как к успешному мужу с кошельком. Для неё он был просто Димой, одиноким парнем на отдыхе.
Этот роман стал для него глотком воздуха. Две недели чистого, бездумного «сейчас». Прогулки по набережной, где он не проверял телефон каждые пять минут. Смех у бассейна. Тихие вечера с вином, когда они говорили о чём угодно, кроме его реальной жизни. Он тщательно обходил тему брака. Не потому что был подлым лжецом, а потому что этот мир – с его проблемами, недоверием и холодом – казался здесь, под турецким солнцем, кошмаром из другой жизни. Здесь же была только она – настоящая, молодая, без хитростей, и он – человек, заново учащийся дышать.
А потом наступил последний день. Упакованный чемодан стоял у двери, трансфер был заказан на раннее утро. Он увидел её спящую – беззащитную, доверчивую, с ресницами, лежащими на щеках. И его охватил внезапный, острый страх. Страх перед сложностями, перед объяснениями, перед тем, что эта лёгкая сказка, столкнувшись с грубой реальностью его брака, рассыплется в прах и оставит после себя только горечь и чувство вины.
Он намеренно ушёл, не попрощавшись. Не оставил номера. Не взял её контактов. Это было малодушно, подло даже. Но тогда ему казалось, что так – чище. Оставить всё как есть: прекрасный, законченный эпизод, который не будет испорчен неловкими попытками протянуть ниточку через океан их реальных жизней.
Память о ней оставалась тёплой и светлой, как морская галька, нагретая солнцем. Он иногда думал о ней с лёгкой, ностальгической грустью – как о чём-то очень хорошем, но навсегда оставшемся там. До сегодняшнего дня.
5 Материнство
Две недели. Четырнадцать дней, которые слились в один бесконечный, изматывающий цикл из лихорадочного бреда, хриплого кашля и липкого от лекарств и пота детского тела.
Всё началось с Таи. Температура подскочила внезапно, как лесной пожар. Катя ещё надеялась отделаться «лёгким ОРВИ», но к ночи градусник показывал уже под 39, а в горле у дочки сипел такой круп, что, казалось, звук выцарапывается изнутри когтями. Дни превратились в постоянное дежурство: сбить температуру, напоить, уговорить принять горькую микстуру, убаюкать на руках, пока та не откашляется. Катя спала урывками по двадцать минут, её сон был чутким, как сторожевой пес, улавливающий малейший хрип или стон из детской.
А потом сдал и Тимур. Её тихий, терпеливый богатырь. Он просто прилёг днём, а когда Катя потрогала его лоб, сердце у неё упало – под пальцами пылал сухой, страшный жар. Теперь на её руках горели уже двое. Детская превратилась в лазарет. Воздух густо пах ромашковым полосканием, эвкалиптом из небулайзера и детской беспомощностью.
И на фоне этого ада надо было работать. Потому что конец квартала – святое. Потому что её отчётность ждали в головном офисе, а её репутация была построена на том, что она никогда не срывает сроки. Она выходила на связь ночами, когда дети на час-другой проваливались в тяжёлый, лекарственный сон. Сидела в полумраке, при свете экрана ноутбука, с одним ухом, прислушивающимся к дыханию за стеной. Цифры в таблицах плыли перед глазами, мозг отказывался складывать простые суммы. Она пила литрами холодный крепкий чай, щипала себя за запястье, чтобы не уснуть. Работала одной рукой – вторая была постоянно занята: то придерживать Таю, чтобы та не выплюнула лекарство, то гладить по спинке кашляющего Тимура.
Были моменты, когда она буквально чувствовала, как трещит по швам. Когда в три ночи Тимур снова начинал кашлять, а на столе мигал дедлайн по отправке файла. Она стояла посреди комнаты, трясясь от усталости, и думала, что сейчас просто сядет на пол и завоет. Но не могла. Потому что завтра нужно было вызвать врача снова, потому что завтра надо было бежать в аптеку, потому что завтра – новый рабочий день.
Её спасал только режим, жёсткий и бесчувственный, как армейский устав. График температуры, график лекарств, график отчётов. Мир сузился до размеров этой уютной, пропахшей болезнью квартиры, до экрана ноутбука и двух горячих лбов, которые она целовала, шепча: «Выздоравливайте, мои хорошие, выздоравливайте скорее. Мама всё выдержит».
И где-то на самой дальней, самой затемнённой полке сознания, в эти измождённые дни, иногда всплывало другое лицо. Лицо мужчины с разными глазами. И мысль, тупая и далёкая: «А если это он… Как бы он сейчас помог? Или хотя бы просто спросил…» Но тут же она гнала её прочь. Не до этого.
Воспоминания о том курорте были для Кати особым, закупоренным сосудом, к которому она боялась прикасаться. Он представился просто Димой. Весёлый, лёгкий, с умными, непохожими друг на друга глазами – один тёплый, как кофе, другой светлый, как море в ясный день. Это казалось магией. Она, юная, наивная, поверила в эту сказку на две недели. Поверила его искреннему интересу, его смеху, его рассказам о фамильной черте, передающейся по мужской линии, как редкая драгоценность. Она влюбилась, в этот взгляд, в эту временную реальность, где они были просто двумя счастливыми людьми у моря.
А потом он исчез. В последнее утро его просто не было. Ни записки, ни номера, ни слова «прощай». Словно их роман был для него одноразовым сувениром, который можно оставить в номере отеля вместе с использованным полотенцем. Эта молчаливая, трусливая точка в конце их истории ранила её куда сильнее любой ссоры. Она кричала ей одно: она не стоила даже пяти минут на прощание. Он стёр их легко, как стирают карандашный набросок.
Именно поэтому мысль о возможной встрече теперь, спустя годы, вызывала в ней не любопытство, а почти физический ужас и жгучую обиду. Зачем? Чтобы снова увидеть в его глазах ту же самую лёгкую, ничего не значащую любезность? Чтобы подтвердить, что она и её чувства тогда и сейчас – всего лишь досадная случайность в его упорядоченной жизни? Нет. Пусть лучше тот Дима навсегда останется красивым, но чёрствым призраком из прошлого, чем станет живым подтверждением её собственной наивности и его безразличия.
6 Турция
Курорт в Турции появился в её жизни не как мечта, а как побег. Ещё за год до этого Катя верила, что всё идёт по плану. У неё был Саша, они вместе учились, вместе копили на свадьбу, скидываясь с стипендий и первых зарплат на конверт с надписью «Наше будущее». Она уже приглядывала платья и думала, как назовут детей. А потом – случайный смс-диалог на его телефоне, который она никогда не проверяла, но увидела мигающей иконку. И всё. Хрупкий фарфор их общих надежд разбился в одно мгновение, оставив на полу лишь острые, режущие осколки предательства.
Мое детство закончилось в тот день, когда перестали биться два сердца – мамино и папино. Мне было четырнадцать, и мир, который до этого был таким прочным и надежным, рассыпался в прах, как старая штукатурка. Я помню их запахи: папа запах табака и типографской краски (он работал в газете), мама – от ванилина и простого детского крема. Помню звук папиного голоса, читающего вслух по вечерам, и тепло маминых рук, поправлявших одеяло. Эти воспоминания – как выцветшие фотографии в альбоме: драгоценные, но безмолвные. Они не согревают, а лишь оттеняют ту пустоту, что пришла после.
После предательства Саши, я осталась одна. Совсем одна. Не тети, не дяди, не двоюродных сестер – никого, с кем можно было бы разделить эту ношу памяти. Иногда кажется, что я – последний свидетель их существования. Если я забуду тонкую линию брови мамы или привычку отца насвистывать одну и ту же мелодию, то эти детали исчезнут навсегда, будто их и не было. Это странное и страшное чувство – быть единственным хранилищем двух целых жизней.
Она не стала выяснять. Не кричала и не плакала при нем. Просто собрала свои вещи из их съёмной комнатки в общежитии, оставила на столе половинку их сбережений и ключ. А на следующий день, движимая слепым, отчаянным порывом заглушить боль действием, зашла в турагентство. «Куда угодно. Подальше. И побыстрее». Так и оказалась с горячей путёвкой в Турции, под слишком ярким, безучастным солнцем, с пустотой внутри, которую отчаянно пытался заполнить шум прибоя. Она приехала туда не за романом, а чтобы забыть. И встретила Диму – человека, который казался полной противоположностью Саше: взрослый серьёзный, ни к чему не обязывающий, с глазами, в которых читалась какая-то своя, непонятная ей тогда грусть. Он стал болеутоляющим, временной передышкой.