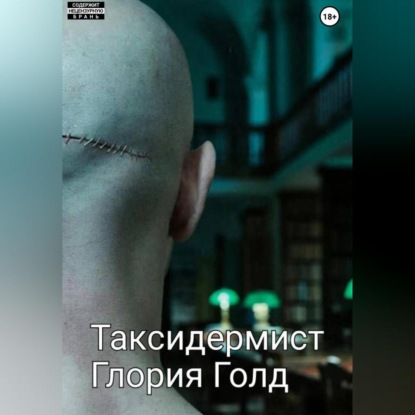Полная версия
Подражатели Таксидермиста
– Я бы вежливо отказал, майор. И посоветовал бы ему заняться чем-нибудь более безобидным. Коллекционированием марок, например. Некоторые организмы слишком сложны для любительского препарирования. Они могут… распасться в процессе. Нанести вред экспериментатору.
Громов вышел на лестничную клетку, плотно прикрыв за собой дверь. Он стоял в полутьме, слушая, как в квартире за дверью неторопливо передвигают стул, и чувствовал ледяной ком в желудке. Ловецкий был чист. Слишком чист. Его осуждение подражателя было слишком идеологически выверенным. Он был идеальным кандидатом на роль «мозга». Учёный, разочарованный в людях, живущий среди мёртвых форм, видящий в работах Воронцова высшую эстетику. Он мог предоставить знания. Мог даже направлять, оставаясь в тени, получая удовольствие от чистого эксперимента: что получится, если дать примитивному уму инструменты гения?
Но доказательств не было. Ни одной улики. Только идеальная, отполированная до блеска теория в голове у старика. И ещё – тот самый холодный огонёк в глазах, когда он говорил о «вреде экспериментатору». Это была не угроза. Это было предсказание. Ловецкий считал, что подражатель обречён на провал, на саморазрушение. И, возможно, наблюдал за этим процессом с научным интересом.
Громов спустился вниз и сел в машину. У него теперь было два портрета. Морозов – обиженный, пьяный, вероятный исполнитель. И Ловецкий – холодный, расчётливый, возможный идеолог. Но не хватало третьего. Того, кто связал их вместе. Того, кто нашёл Морозова, принёс ему украденное дело, свел с профессором. Того, кто видел в этом не месть и не науку, а… что? Шоу? Искусство? Игру?
Его телефон вибрировал. Смс от Семенова: «Продавец опознал. Это не Морозов. Парень лет 25, худой, в чёрном. Говорил о «возрождении истинного искусства через шок». Спросил, нет ли графики Алисы.»
Значит, был третий. Молодой. Говоривший об искусстве. «Куратор». Триумвират, который он предполагал, начинал обретать контуры. Оставалось найти связь. И поторопиться. Потому что «Серия – Правосудие», судя по оставленной записке, только началась. И следующая жертва могла быть уже выбрана.
Глава 5. Триединый монстр
Кабинет начальника Управления по розыску пропавших детей полковника Дунаева был полной противоположностью кабинету Громова на Петровке – просторный, с дорогой мебелью, ковром и портретом министра на стене. Сам Дунаев, крепкий, коротко стриженный мужчина лет пятидесяти, смотрел на Громова не как на подчинённого, а как на досадную помеху. На столе между ними лежало служебное письмо из архива – сухой отчёт о пропаже тома, который Михеев, в конце концов, решил «зафиксировать».
– Андрей Ильич, объясни мне, – начал Дунаев, откидываясь в кресле. – Твоя работа – дети. Пропавшие дети. А ты носишься по городу, как угорелый, из-за какой-то украденной папки по делу, которое закрыто несколько лет назад. И теперь ещё этот… участковый. Местные РУВД сами разберутся.
– Полковник, это не просто участковый, – тихо, но твёрдо сказал Громов. – Это сигнал. Первый. По той же схеме, что и дела Воронцова. Только грубее. Это подражатели. И они объявили серию «Правосудие». Значит, будут следующие. И не факт, что они остановятся на милиционерах.
– Ты строишь теории, – отмахнулся Дунаев. – На основании чего? Один пьяный участковый, которого кто-то отравил и над которым поиздевались. Может, это бывшие «клиенты» мстят. Банальная уголовщина.
– Там был манифест, – напомнил Громов. – И метод. Тот самый метод.
– Метод могут скопировать по газетным статьям! – повысил голос Дунаев. – Тебя, Громов, это дело сломало. Я понимаю. Но ты должен двигаться дальше. У тебя своя работа, важная работа. Не лезь не в своё дело. Официального запроса от уголовного розыска нет. Расследованием занимаются они. Ты – нет. Понял? Громов молча смотрел на полковника. Он понял. Дунаев боялся. Боялся скандала, боялся, что его управление ввяжется в историю, которая испортит всем карьеру. Боялся призрака Таксидермиста, который мог снова вылезти на первые полосы.
– Понял, – наконец сказал он. – Но если будет второй случай?
– Тогда будем смотреть. А пока – займись своим прямыми обязанностями. У тебя же там девочка в Люблино до сих пор не найдена. Вот о чём думать надо. Громов вышел из кабинета, чувствуя знакомое ощущение стены. Система защищалась. Замыкалась в себе, предпочитая не видеть угрозу, чтобы не брать на себя ответственность. Он вернулся к себе, уставился на фотографию пропавшей девочки. Дунаев был по-своему прав. Её нужно было искать. Но и остановить зарождающегося монстра было необходимо. Он не мог сидеть сложа руки. Вечером, дома, за ужином, он был рассеянным. Анна заметила это сразу.
– Что-то случилось? – спросила она, убирая со стола тарелку супа, которого он почти не тронул. Саша делал уроки в своей комнате.
– Нашёл первого подражателя, – коротко сказал Громов. – Вернее, его работу.
Анна замерла с тарелкой в руках.
– Расскажи.
Он рассказал. Про участкового Грекова, про грубый шов, про манифест. Анна слушала, не перебивая, её лицо стало сосредоточенным, профессиональным. – «Наша реальность – грязь», – повторила она. – Это интересно. У Антона была утопия чистой формы. У этого… у этого нет утопии. Есть только констатация уродства и желание его законсервировать, выставить напоказ. Это более социально, более зло. И более опасно, потому что это может найти отклик у многих.
– У меня есть подозрения, кто может стоять за этим, – признался Громов. Он рассказал про Морозова и про профессора Ловецкого. Анна внимательно выслушала.
– Ловецкий… – она задумалась. – Я слышала это имя. Он публиковал статьи в узких научных журналах ещё в восьмидесятых. «Морфологические параллели в построении хитинового покрова насекомых и социальных иерархий». Что-то в этом роде. Он рассматривал социум как биологическую систему. Для него люди, наверное, действительно просто вид насекомых.
– А Морозов?
– Морозов – инструмент. Озлобленный, обделённый, с доступом к информации и, возможно, к некоторым ресурсам. Но ему нужен был бы толчок. Идея. Кто-то должен был принести ему эту идею, завернув в красивую обёртку «восстановления справедливости» или «продолжения дела гения».
– Третий, – кивнул Громов. – Молодой. Говорит об искусстве. Продавец в букинистическом описал его.
– «Куратор», – тихо сказала Анна. – Так они себя, наверное, и называют. Исполнитель, Идеолог, Куратор. Триединый монстр. Громову вдруг стало не по себе от точности её формулировок.
– Как их найти? Они наверняка осторожны.
– Они совершили ошибку, – сказала Анна. – Они начали диалог. Оставили манифест. Они ждут реакции. Не только от системы. От тебя, Андрей. Ты – главный оппонент их «Мастера». Тебе они и адресовали своё «он ошибался». Они хотят, чтобы ты увидел. Чтобы ты признал их правоту. Или вступил с ними в спор.
– Значит, нужно дать им реакцию, – понял Громов. – Но какую?
– Покажи, что ты их видишь. Но не так, как они хотят. Не как судью или зрителя. Как охотника. Сделай что-то, что выбьет их из колеи. Наруши их сценарий. В этот момент из комнаты вышел Саша. Он уже был в пижаме, с учебником по физике в руках.
– Пап, можно тебя спросить? – Конечно, сын. – Ты опять ловишь того… Таксидермиста? Громов и Анна переглянулись.
– Не его, – честно сказал Громов. – Но тех, кто пытается быть на него похожим. – Они опасны?
– Опасны. Но я их найду.
Саша кивнул, его лицо было серьёзным. – Они могут… они могут попробовать сделать что-то с тобой? Или… со мной? Потому что ты их ловишь? Вопрос повис в воздухе, острый и страшный в своей детской прямоте. Анна сделала шаг вперёд, но Громов остановил её взглядом.
– Они могут попробовать, – так же честно ответил он. – Но этого не случится. Потому что я теперь знаю, как они мыслят. И я буду готов. И ты, – он посмотрел сыну прямо в глаза, – ты должен быть осторожнее. Не ходи один в тёмное время. Всегда сообщай, где ты. Договорились?
– Договорились, – Саша кивнул, и в его глазах читалась не детская трусость, а решимость взрослого человека, который понимает правила игры. После того как Саша ушёл спать, Громов сказал Анне:
– Он прав. Они могут ударить по нему. Чтобы добраться до меня. Чтобы создать «высший символ» – сын охотника, превращённый в экспонат.
– Мы его защитим, – твёрдо сказала Анна.
– Но лучшая защита – найти их первыми.
На следующее утро Громов, игнорируя запрет Дунаева, сделал то, о чём говорила Анна. Он позвонил своему знакомому, оставшемуся в уголовном розыске, и попросил передать кое-что в оперативные сводки, которые читаются на всех утренних планерках. Неофициально. Всего пару строк. «По факту убийства участкового уполномоченного Грекова. Оперативная информация: исполнители – группа лиц, использующая методы, сходные с делом «Таксидермист». Работают неумело, с грубыми ошибками. Рассматриваются как несерьёзные подражатели, не представляющие такой же угрозы, как оригинал. Основная версия – бытовой мотив под прикрытием».
Суть была ясна: система вас видит, но не считает серьёзной угрозой. Вы – жалкие копии. Это должно было задеть их самолюбие. Вывести из равновесия. Заставить совершить ошибку, поторопиться со следующим «приговором», чтобы доказать свою значимость. А Громов в это время связался с Семеновым и дал ему новое задание: найти связь. Между Морозовым и букинистическим магазином. Между Ловецким и кем-либо из молодых радикалов от искусства. Между всем этим и пропавшим томом. Он чувствовал, что время работает против него. Триумвират, оскорблённый его публичным снисхождением, не станет ждать. Они ответят. И следующая их работа будет более дерзкой, более «идеальной», чтобы доказать, что они не «неумелые подражатели». Охота приняла странный характер: он провоцировал зверя на выход из тени, сам оставаясь в ней. И теперь всё зависело от того, кто первым дрогнет.
Глава 6. Наследие для ученика
Бывшая служебная квартира Морозова в Тушино оказалась захламлённой берлогой. Запах плесени, старого табака и чего-то кислого – то ли прокисших щей, то ли перегара – ударил в нос Семенову, когда хозяйка, пожилая, испуганная женщина, впустила его в прихожую. Она была тёткой Морозова, и на все вопросы о племяннике только качала головой и причитала: «Пропил всё, родимый, пропил карьеру… Не появляется, денег только шлёт иногда, откуда – не знаю…» Семенов, предъявив удостоверение, но без обыска, прошёлся по комнатам. Обыск ничего бы не дал – здесь было лишь запустение. Грязная посуда в раковине, пустые бутылки из-под портвейна в углу, заляпанный жиром телевизор. Ни намёка на лабораторию, инструменты, химикаты. Эта квартира была местом падения, а не возрождения. Морозов здесь не творил – здесь он умирал. Но в углу спальни, под кроватью, Семенов нашёл картонную коробку. В ней, среди старых газет и пустых пачек от сигарет, лежали две вещи. Первая – потрёпанная, самодельно переплетённая папка. На обложке каллиграфическим, не морозовским почерком было выведено: «Каталог. Серия «Правосудие». Проекты и описания». Внутри – распечатанные на принтере страницы с биографиями, фотографиями, служебными характеристиками. Список из пяти имён. Участковый Греков был первым. Вторым значилась фамилия следователя из прокуратуры, известного своими «заказными» делами в лихие 90-е. Третьим – фамилия судьи. К каждому – список «прегрешений», выдержки из жалоб, газетных статей. Это был не эмоциональный памфлет, а холодный, почти судебный обвинительный акт. Вторая находка была ещё страннее. Конверт. На нём не было адреса, только рукописная фраза: «Для ученика. Основа – в чистоте. Содержимое – в грязи. Первый урок: шов – это граница миров. Делай аккуратнее». Внутри лежала фотокопия страницы из старого учебника по зоологической таксидермии 50-х годов. На полях – аккуратные пометки другим почерком: «См. состав №3 для кожи млекопитающих. Для человеческой дермы – увеличить долю глицерина. Инъекции в мышцы лица проводить до полного отвердения состава №2». Это были инструкции. Чёткие, профессиональные, адаптированные под человеческий материал. Ученик. Учитель. Семенов сфотографировал всё на свой фотоаппарат, положил обратно и вышел. В машине он позвонил Громову.
– Нашёл базу. У Морозова есть «каталог» жертв. И инструкции от… кого-то. Его называют «учеником». Почерк в пометках старый, академический.
– Ловецкий, – без тени сомнения сказал Громов. – Он передаёт знания. А Морозов – его руки. Но кто собрал этот «каталог»? Кто нашёл компромат, систематизировал? Не Морозов, он на это не способен. И не Ловецкий – он выше «грязи», он занят формой. – Третий, – заключил Семенов. – «Куратор». Он собирает материал. Находит «грязных» людей. Предоставляет их Морозову для «очистки». А Ловецкий обеспечивает технологию. Идеальная симбиотическая система.
– Она идеальна, пока не дала сбой, – мрачно ответил Громов. – А сбой уже есть. Их первая работа была раскритикована. Ими пренебрегли. Они будут стараться сделать следующую лучше. Идеальнее. Чтобы их признали. Следующая жертва в списке – следователь прокуратуры. Нужно его предупредить, взять под охрану.
– Андрей Ильич, официально нас не подпустят. У нас нет полномочий, да и Дунаев…
– Я знаю. Поэтому сделаем неофициально. Найди этого следователя. Позвони ему анонимно. Скажи, что он в списке у маньяков. Пусть берёт отпуск, уезжает, усиливает охрану. Хоть как-то.
– Понял. А что с Морозовым?
– Он сейчас, наверное, не в своей квартире. У него есть мастерская. Где-то, где можно работать. Искать нужно заброшенные помещения. Гаражные кооперативы в том же Тушино, подвалы, бывшие заводы. Ищи по адресам его старых, закрытых дел. Он мог использовать конфискованные склады.
– Будет сделано. Семенов положил трубку и посмотрел на серые панельные дома Тушино. Где-то здесь, среди этого унылого бетона, человек, которого система выплюнула, учился превращать людей в кукол, руководствуясь указаниями какого-то безумного профессора и вдохновляясь ненавистью какого-то юного циника. Это была алхимия самого тёмного толка – трансмутация человеческой грязи в уродливое, но претендующее на вечность искусство.
А тем временем в своей квартире-музее Павел Игнатьевич Ловецкий получил по почте бандероль. Без обратного адреса. Внутри лежала фотография. Не цифровая распечатка, а чёрно-белый, слегка зернистый снимок, сделанный, судя по всему, старой «Сменой». На нём был запечатлен «участковый Греков» на скамейке, но снято это было не как доказательство, а как произведение. Ракурс низкий, свет падал сбоку, подчёркивая фактуру ткани плаща, блеск пуговиц, странное выражение лица. Это была не документалка, а почти что художественная фотография. На обороте снимка тем же каллиграфическим почерком, что и в «каталоге», было написано: «Экспонат №1. Серия «Правосудие». Объект: Homo sapiens corruptus servus. Состояние: стабилизировано. Ошибки в технике исполнения: см. приложенные записи. Для архива. К.» Ловецкий долго рассматривал снимок, держа его в тонких, дрожащих от возраста пальцах. Потом аккуратно положил в специальную папку с этикеткой «Современные эксперименты. Подвиды H. sapiens». Он не испытывал отвращения. Испытывал интерес. Его ученик работал. Пусть и с ошибками. Но процесс шёл. Социальные “насекомые” попадали в ловушку, препарировались и каталогизировались. Он, как учёный, наблюдал за экспериментом. И в каком-то смысле руководил им, внося коррективы. Он был не соучастником преступления. Он был научным руководителем диссертации на самую тёмную из возможных тем.
А в это время в маленькой съёмной комнатке в районе метро «Войковская», заваленной книгами по философии искусства, анархизма и журналами по современному искусству, Лика, та самая «Куратор», лихорадочно писала. Не манифест, а текст для будущего арт-критического эссе. «…работа «Вечный пост» бросает вызов не только институциональной слепоте, но и самому языку традиционного акционизма. Используя методологию, позаимствованную у трагического романтика Тишины, автор (авторы?) переносят фокус с абстрактного тела на тело социальное, на тело-функцию. Участковый здесь – не человек, а символ прогнившей системы правосудия, законсервированный в момент своего самого откровенного падения…» Она писала, закусив губу, её глаза горели. Она была тем, кто превращал грязное убийство в интеллектуальный концепт. Тем, кто будет продвигать это «творчество» в нужные круги, когда придёт время. Она видела себя не преступницей, а продюсером грядущей сенсации. Пока Морозов возился с кишками и кожей, а Ловецкий делал пометки в своих архивах, она готовила почву для их славы. Или бесславия. Но это было неважно. Важно было участие в создании истории. Её звонок Морозову был коротким.
– Видел отзывы? Нас назвали неумелыми.
– Хрен с ними, – прохрипел в трубку Морозов. – Второй будет лучше. Материал готов. Место присмотрел.
– Нужно быстрее. Наш «научный консультант» прислал поправки по швам. И… – она сделала паузу, – я думаю, для второго раза нужна более… публичная площадка. Не двор. Что-то, что увидят.
– Опасно, – буркнул Морозов.
– Знаю. Но иначе нас не заметят. Или заметят как клоунов. Ты же хочешь, чтобы он увидел? Чтобы Громов увидел, что мы не жалкие подражатели?
– Хочу, – после паузы ответил Морозов, и в его голосе послышалась та самая, давно копившаяся злоба. – Хочу, чтобы он сдох, глядя на это.
– Тогда слушай мой план… Так, в полной изоляции друг от друга, но соединённые общей, чудовищной идеей, три фигуры готовили свой второй акт. Они спешили. Их подгоняло пренебрежение системы и желание доказать – себе, Громову, миру – что они сила. Что наследие тишины не умерло. Оно просто сменило мастеров. И новые мастера были готовы пачкать руки в самой что ни на есть реальной грязи, чтобы создать своё вечное, уродливое зеркало для общества. А Громов, пока Семенов искал мастерскую и пытался предупредить вторую жертву, сидел в своём кабинете и смотрел на город за окном. Он знал, что часы тикают. Что триумвират ответит на его провокацию. И ответ будет громким. Оставалось только ждать, где грянет этот выстрел. И успеет ли он подставить свою грудь между пулей и очередной жертвой.
Глава 7. Публичная аутопсия
Второй выстрел прогремел не в спальном районе, а в самом сердце юридической Москвы – в здании одного из многочисленных арбитражных судов на Садовом кольце. Не внутри – на мраморной лестнице парадного входа. Тело обнаружили на рассвете дворники, счищавшие с ступеней мартовскую наледь. Судья арбитражного суда Вячеслав Коробов, известный в определённых кругах тем, что его решения всегда можно было «скорректировать» за соответствующий бонус, сидел на верхней ступеньке. Поза была почти торжественной: прямая спина, руки сложены на коленях, в одной – папка с делом, на обложке которого красовалась жирная печать «ИСК УДОВЛЕТВОРЕН». На голове – парик, не настоящий судейский, а театральный, белый, кудрявый, карикатурный. Лицо, обработанное на этот раз куда тщательнее, выражало не удивление, а глубочайшее, сосредоточенное лицемерие. Губы были поджаты, брови слегка приподняты, в уголках глаз застыла маска лже-сочувствия. Работа была на порядок лучше. Шов на шее, хоть и видимый, был ровным, аккуратным. Кожа имела более естественный оттенок – видимо, учли рекомендации «профессора». Но главным был не труп. Главным была инсталляция вокруг. На каждой ступеньке ниже сидели, стояли или лежали, прислонясь к перилам, десятки кукол. Барби, пупсы, советские куклы- младенцы. Все они были испачканы краской, имитирующей кровь, или грязью. У некоторых были оторваны конечности. Это была «публика» – аллегорические истцы и ответчики, «пострадавшие» от решений судьи. А у его ног лежала распечатанная на листе ватмана копия его банковского счёта с зарубежного офшора, с выделенными строчками крупных переводов. И новый манифест, отпечатанный тем же шрифтом: «Приговор №2. Подсудимый: Коробов В.Л., арбитражный судья. Преступление: Продажа Фемиды. Нанесение ущерба в особо крупных размерах (список дел прилагается). Приговор: Вечное председательство на суде совести. Перед лицом тех, кого продал. Серия: Правосудие. П.С. Чистота исполнения – дань Учителю. Грязь содержания – наша реальность. Учитесь отличать.» Это была не просто работа. Это был качественный скачок. От кустарного убийства – к сложной, многослойной инсталляции. От мести конкретному участковому – к публичному, символическому разоблачению целой системы. И явное указание на иерархию: «Учитель» (Ловецкий) и «исполнители» (они сами). Они бросали вызов уже не только системе, но и своему кумиру – Воронцову, заявляя о своём, «грязном» подходе. На этот раз тишины не было. К девяти утра у здания суда стояли толпы, работали все телеканалы, милиция еле сдерживала напор журналистов и зевак. Скандал был оглушительным. «Таксидермисты вернулись!» – кричали заголовки. «Новая серия убийств!» Система, которую Громов пытался спровоцировать на скрытую реакцию, получила плевок в самое лицо на всеобщем обозрении. Теперь молчать было нельзя. Полковник Дунаев вызвал Громова в свой кабинет, но на этот раз его лицо было не сердитым, а землисто-серым. На столе лежала служебная записка из ГУВД с грифом «Срочно».
– Сядь, – бросил Дунаев. – Ты был прав. Чёрт тебя дери, но ты был прав. Это они. И они… они стали умнее.
– Не умнее, – поправил Громов, чувствуя, как адреналин снова начинает будоражить кровь. – Смелее. И у них появился… режиссёр. Тот, кто ставит эту сцену. Раньше было только тело. Теперь – целый спектакль с реквизитом, символикой. Это работа не одного Морозова.
– Говори, что знаешь. Всё. Официально тебя прикомандировывают к оперативной группе уголовного розыска в качестве консультанта. Но главный – не ты. Понял? Ты советуешь, консультируешь.
– Понял, – кивнул Громов. Он и не надеялся на большее. Главное – быть внутри. Он изложил Дунаеву свою теорию о триумвирате: Морозов (исполнитель), Ловецкий (идеолог-технолог) и некий третий, «куратор» (сценарист и медиатор). Рассказал про пропавший том, про инструкции, про «каталог». Дунаев слушал, хмурясь.
– Доказательств на профессора ноль. На «куратора» – только описание продавца. На Морозова – только то, что он пропал. Это ничего не даст следователю.
– Даст направление, – настаивал Громов. – Нужно давить на Морозова. Искать его мастерскую. И отслеживать все разговоры в маргинальной арт-среде. Кто-то где-то обязательно начнёт обсуждать эту… инсталляцию, как искусство. Это будет наш след к «куратору». Дунаев тяжко вздохнул и дал добро на координацию с уголовным розыском. Выйдя из кабинета, Громов тут же позвонил Семенову, который уже был на месте преступления, затерявшись в толпе оперативников. – Капитан, что по второму номеру из «каталога»? Следователь прокуратуры? – В отпуск укатил в Сочи, как только получил мой анонимный звонок, – доложил Семенов. – Значит, они пропустили его. Перешли к третьему. Суду. Их список работает. Нужно срочно выходить на четвёртого и пятого. Кто они? – По списку… четвёртый – бывший начальник РУВД, покрывавший рэкет. Пятый… пятый – частный адвокат, известный тем, что за большие деньги «вытаскивал» явных преступников. – Предупреди их. Анонимно. Любым способом. И ищи связь между всеми жертвами в списке. Должна быть нить. Не просто «грязь». Что-то, что их объединяет в глазах «куратора».
Пока Семенов работал, Громов отправился на место новой «презентации». Лестница уже была оцеплена, тело увезли, но кукол-«зрителей» ещё не тронули. Он стоял и смотрел на это абсурдное зрелище: роскошное мраморное фойе суда, символ власти и порядка, осквернённое гротескным театром смерти. Его коллега из угрозыска, крепкий майор Ковалёв, подошёл к нему.
– Ну что, консультант? Видишь что-нибудь полезное? В его тоне звучала лёгкая насмешка. Громов её проигнорировал. – Вижу прогресс. Они учатся. Им помогает тот, кто знает толк в композиции. Это не просто убийство. Это сообщение. Вам нужно мониторить все арт-галереи, подпольные выставки, тематические форумы в интернете. Кто-то будет это обсуждать не как преступление, а как… художественный жест.
– Художественный жест? – Ковалёв фыркнул. – Да они просто уроды.
– Возможно. Но один из этих уродов – художник. И он жаждет признания. Найдите того, кто признаёт.
Громов знал, что его вряд ли послушают. Система мыслила категориями засад, опросов, отпечатков. А ему приходилось думать категориями эстетики, философии и больного тщеславия.
Он отъехал от суда и направился в сторону Ленинского проспекта. К Ловецкому. На этот раз без предупреждения. Старик открыл дверь, и на его лице не было ни удивления, ни страха. Было ожидание.
– Павел Игнатьевич, видели новости? – спросил Громов, переступая порог.
– Видел, – просто ответил Ловецкий, пропуская его внутрь. – Интересный экземпляр. Более сложная композиция. Уже не просто фиксация типажа, а попытка контекстуализации. Примитивная, но попытка.
– Вы знаете, что за этим стоит? – Громов смотрел ему прямо в глаза.
– Я знаю, что за этим стоит желание быть услышанным, – философски заметил старик.